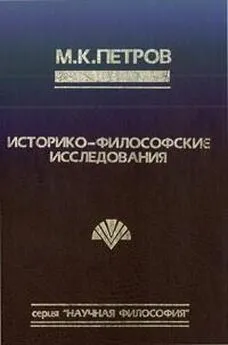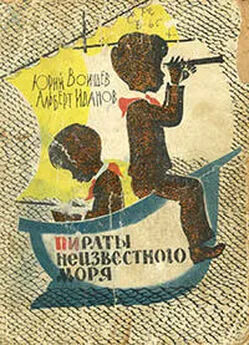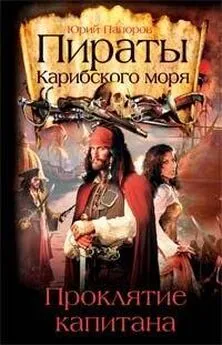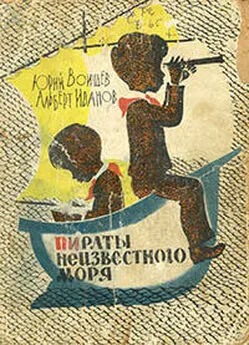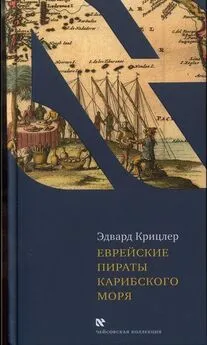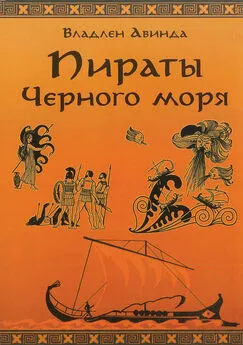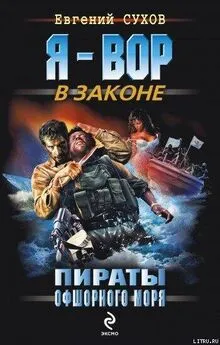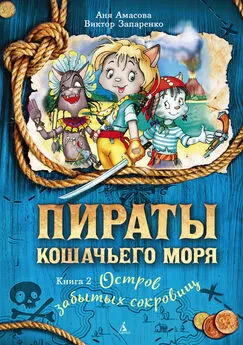Михаил Петров - Пираты Эгейского моря и личность.
- Название:Пираты Эгейского моря и личность.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Петров - Пираты Эгейского моря и личность. краткое содержание
Рукописи, как и книга «Язык, знак, культура», печатаются без сокращений и без изменений. Редакторские примечания, относящиеся главным образом к истории наследия или раскрывающие имена, которые не всегда можно обнаружить в справочниках, вынесены в подстрочник.
М., 1995. 140 с.
Пираты Эгейского моря и личность. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так или иначе, но перед человеком открыто множество путей повлиять на ход истории, но пока он стоит в традиционной платоно-христианской позиции порядка ради порядка и определенности ради определенности, перед ним, похоже, закрыты все пути к ответственности. Он попрежнему раб божий - раб буквы, порядка, авторитета, сложившихся институтов, покольку свобода остается в прежнем распределении: повелитель свободен от исполнения, раб - от ответственности. Ответственность отчуждена в иерархию вышестоящих авторитетов, то есть движется в ту же дурную бесконечность, что и все другие субъективированные прилагательные в превосходной степени. В том «вменяемом» виде, в каком она была бы приложима к действиям инвалида, ответственности в нашем мире вроде бы и нет. И все же ответственность - явно не того сорта сущность, которую наряду с всеведением, всесилием, высшим авторитетом можно признать реликтом стабильности в нестабильном мире, убрать из механизма обновления. Ответственность очевидным образом присутствует в этом механизме как необходимость снимать выбор, предпочитая одно другому, и нести груз последствий выбора.
В этом пункте мы и подходим к проблемам второго круга - к системам селекции, критериям отбора и прочим высоким материям, о которых принято говорить и писать как о смысле жизни, о назначении человека и его сущности. Античность и христианство решали эти проблемы довольно просто: принцип добра и совершенства связывался прямо с моментом творения мира, так что антично-христианский космос был не только упорядоченным и вечным, но и в высшей степени оптимизированным - приведенным в наилучший порядок из всех возможных для него порядков. Поскольку порядок этот не имел нужды в изменении, то оценка его совершенства была во многом делом личных предпочтений и вкусов. Оптимистам предоставлялось право восторгаться существующим, пессимистам - скорбеть о потерянном рае, но порядок, как он есть, не оставлял сомнений в своей прочности, так что оставалось лишь различным образом интерпретировать мир, не задумываясь над тем, чего в то время не было - над изменением миропорядка. Платон сообщает о демиурге, что тот действовал без зависти, из лучших побуждений, от души, и этого казалось вполне достаточным.
Лишь много позже начинает выясняться, что добрые намерения, хотя и не пропадают даром - ими мостят дороги в ад, - служат все же довольно шаткой гарантией полноценности результата. Инфляция добронамеренности, как мы уже говорили, сместила центр тяжести человеческого доверия к разуму, к «суду разума». Даже скептик по природе Кант считал все же возможным твердо надеяться на разум: «Чистый разум, если бы он был наделен соответствующей ему физической способностью, породил бы высшее благо» (32, т. 4, ч. 1, с. 363). Правда, Кант первым обнаружил каноничность разума, увидел в нем не инструмент упорядочения наличного, а инструмент выхода за рамки наличного, способный к синтезу нового. Но все же его возможный опыт был традиционно замкнут не в том относительном смысле, в каком мы говорим о шорах канона или грамматики языка, а в смысле абсолютном, в каком нам пришлось бы говорить об исчерпаемости языковых средств, о некоем будущем моменте, когда все, что можно написать, будет написано, на стеллажи поставят последнюю книгу, и журналы, в целях экономии бумаги, станут выходить на одном листе в форме списка рекомендованной литературы и относящейся к делу критики.
Но так или иначе, а живем мы сегодня в мире, где чистый разум более чем достаточно наделен соответствующей физической способностью, а обещанное в этой ситуации высшее благо не спешит появляться на свет. Даже не совсем ясно, в чем оно могло бы состоять, это высшее благо. Еще Протагор вьадвинул в основу всех ценностных шкал человека: «Всем вещам мера - человек; существующим, что они есть, а не существующим, что их нету» (Платон. Тэетет, 151 Е). С тех пор эта мысль овладевала постепенно философствующими массами, и в эпоху реформации, да и после нее, когда человек остался один на один с богом, или, как говорит Маркс, «с попом в голове», человек прочно вошел в философский обиход на правах самодовлеющей цели. Кант, например, писал: «В ряду целей человек (а с ним и всякое разумное существо) есть цель сама по себе, то есть никогда никем (даже богом) не может быть использован как средство, не будучи при этом вместе с тем и целью, что, следовательно, само человечество в нашем лице должно быть для нас святым, так как человек есть субъект морального закона, стало быть, того, что само по себе свято, ради чего и в согласии с чем нечто вообще может быть названо святым» (32, т. 4, ч. 1, с. 465-466).
Но поставить человека в исходный пункт всех рассуждений, написать о нем прекрасные и величественные слова, совсем еще не значит внести ясность в положение человека в современном мире. Совсем напротив, возведенный в метафизический постулат «начала» национальности и педантично определенный в своих «естественных» свойствах, превращенный в умозрительную абстракцию человек может оказаться таким же стабилизирующим и омертвляющим центром системы, как и постулаты высшего авторитета, творения, вечного и неизменного порядка. К примеру, если вслед за немецким просвещением и немецкой философской классикой понимать сущность человека как сущность деятельную в духе ереси Гете: 1m Anfang war die Tat!», то есть в рамках простого противопоставления библейскому «В начале было слово!» просветительского «В начале было дело!», то как бы широко мы ни определяли деятельность, человек вместе со своей сущностью навсегда будет приговорен к репродукции. Картина антично-христианского миропорядка останется висеть на своем месте, изменится лишь точка зрения. Раньше ее видели глазами господина, теперь - глазами раба, возлюбившего свои оковы. Соответственно и движения репродукции в процессе обновления будут восприниматься под формой зла, поскольку они вынуждают раба переходить от одного дела к другому, «перековываться» в мучительных операциях замены одних, разношенных уже и привычных цепей технологического рабства другими цепями - новыми, непривычными и неразношенными.
Весь во власти подобных представлений о сущности человека, Хаксли в 1947 г. так утешал читателей по поводу ближайших перспектив развития атомной энергии: «Можно предположить, что в течение этого периода ядерная энергия станет доступной для промышленного использования. В результате, и это довольно естественно, мы получим серию экономических и социальных сдвигов, невиданных по скорости и глубине. Все существующие модели человеческого существования будут разрушены, и в порядке импровизаций придется создавать новые модели, которые соответствовали бы бесчеловечному факту атомной энергии. Ученые-ядерники, эти прокрусты в современных одеждах, подготовят человечеству ложе, в котором ему придется размещаться. И если человечеству не удастся этого сделать, то тем хуже для человечества. Здесь не обойтись без вытягиваний и ампутаций, тех самых вытягиваний и ампутаций, которые регулярно происходят с тех пор, как прикладная наука вырвалась на столбовую дорогу. Только на этот раз и вытягивания и ампутации будут несколько более решительными и радикальными, чем в прошлом» (5, р. XI).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: