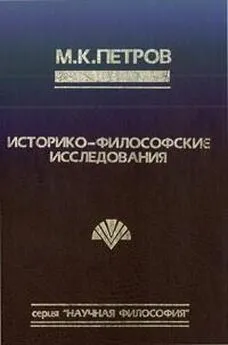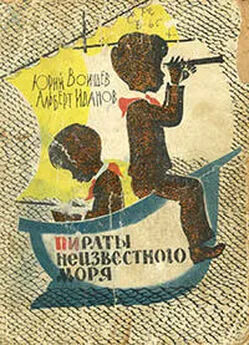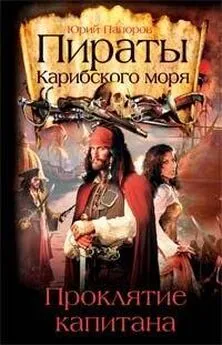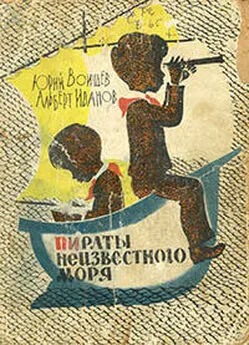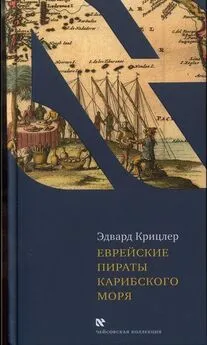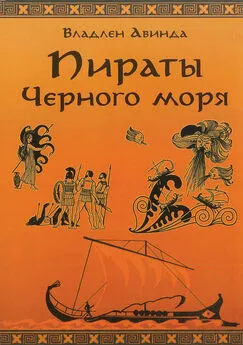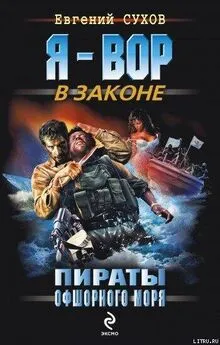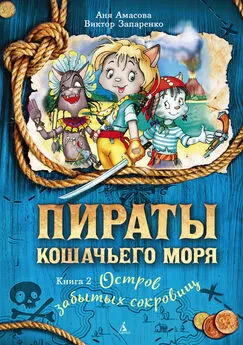Михаил Петров - Пираты Эгейского моря и личность.
- Название:Пираты Эгейского моря и личность.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Петров - Пираты Эгейского моря и личность. краткое содержание
Рукописи, как и книга «Язык, знак, культура», печатаются без сокращений и без изменений. Редакторские примечания, относящиеся главным образом к истории наследия или раскрывающие имена, которые не всегда можно обнаружить в справочниках, вынесены в подстрочник.
М., 1995. 140 с.
Пираты Эгейского моря и личность. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если рост стоимости единицы научного продукта и находит еще какое-то, не очень убедительное, объяснение через рост стоимости экспериментального оборудования, то уж разрастание лагов никакими объективными причинами объяснить невозможно. И все же попытка объяснить их через субъективную злонамеренность современных демиургов менее всего описывала бы существо дела. Гораздо более убедительной представляется гипотеза П.Фридмана: «Рассмотрим коллективное научное исследование в его современной форме. Прежде всего бросается в глаза, что существует несколько типов коллективов, а затем уже и то, что все эти типы появились не по требованию самих ученых, а по требованию их патронов или представителей патронов, то есть правительственных чиновников, дельцов, предпринимателей и вообще джентльменов, которые не являются сами учеными, но считают, что они лучше ученых понимают, как именно должно быть организовано научное исследование... Отношение патронов, ответственных за нововведение, понятно: они видят, что сотня рабочих на обувной фабрике может произвести не в сто, а в тысячу раз больше, чем один сапожник, и что это верно для всего производства от газет до сосисок» (15, р. 129).
Иными словами, речь идет не о сознательных попытках подавить науку, а о переносе на творчество норм репродукции, то есть попытках решать проблемы нестабильности теми методами, которые имеют силу и доказали свою действенность для стабильных условий - методами платоновского демиурга. И результат получается соответственный: субъективно безупречные усилия организовать и упорядочить науку «для ее же пользы» приводят не к повышению, а к падению производительности научного труда. Статистика показывает, что стоимость расходов на единицу научного продукта возрастает пропорционально четвертой степени от числа участников исследования (33, с. 252). Этот результат можно истолковать и таким способом, что вероятность открытия, если оно вообще может быть сделано на данном направлении исследований, растет пропорционально корню четвертой степени от числа участников исследования, то есть, например, там, где работает один «неорганизованный» ученый, если он, конечно, на правильном пути, сотня ученых могла бы выполнить работу и получить соответствующие результаты втрое быстрее.
В таком истолковании понятным становится увлечение громоздкими организационными формами «манхэттенского» типа: иногда, по случаю войны, например, выигрыш во времени может оказаться решающим аргументом в научной политике. Но возникающая в рамках соревнования систем научно-техническая гонка - не бег на спринтерские дистанции. Здесь нет финишной ленточки, разорвав которую можно и свалиться с чувством победителя. И тот усиленный организационный допинг, которому подвергается сегодня наука, может кончиться весьма плачевно.
По существу наука сегодня работает не тем привычным для нее методом индивидуального вклада, которым работают, например, в литературе, а методом «субботника», коллективного, массированного наскока на проблему, где с неизбежностью появляется репродуктивная связь и соответствующий «божественный» подход к ее решению, улучшению. Это прекрасно видят крупные ученые. П.Л. Капица, например, объясняет положение в науке в терминах «других областей творчества», через театр и кино: «Некогда театр состоял только из труппы актеров, и режиссер был незаметной фигурой. Теперь же, особенно с развитием кино, в котором участвуют тысячи и десятки тысяч актеров, главная роль, определяющая успех постановки, перешла к режиссерам. При большой коллективной работе режиссер стал теперь необходим также и в науке. Какие требования мы ставим перед ним? Главное требование то, что его роль должна быть творческой, а не чисто административной. Он должен понимать смысл и цель решений научной работы и должен правильно оценивать творческие возможности исполнителей, распределять роли по талантливости и так целесообразно расставить силы, чтобы все стороны решаемой проблемы развивались гармонично» (34, с. 109).
Здесь сразу возникает два вопроса. Первый связан с самой природой научного творчества, и сформулировать его можно так: существует ли кроме индивидуального творчества, основанного на способности человеческой головы «развязывать» традиционные сочетания идеи и «связывать» их в новые сочетания, еще и другое - коллективное творчество, основанное уже не на свойствах головы, а на свойствах взаимодействия голов? Иными словами, если перевести это на язык литературы, существует ли кроме традиционного способа писать рассказы, повести, романы в одиночестве еще и другой, «режиссерский» способ делать то же самое? На память здесь сразу приходят братья Гонкуры, Ильф и Петров, Бахнов и Костюковский. Но дальше такого недлинного списка дело как-то не идет, и коллективное творчество в литературе есть, похоже, странность, отклонение, отнюдь не правило, если не говорить о методе «литературного негра» или «литературного раба», который, видимо, не имеет прямого отношения к литературе, хотя он наиболее полно подходил бы под режиссерский канон организующе-творческой деятельности, нарисованный Капицей. В науке положение сложнее, здесь соавторство - не только пары, но и трех, четырех, пяти и т.д. научных работников не исключение, а норма, особенно если речь идет о «большой науке»: для режиссерского варианта средняя мера соавторства 2,32 (16).
Соавторство доказывает, казалось бы, принципиальную возможность делать одну и ту же работу в науке и одной головой и многими головами сразу, но если всмотреться в существо дела и, в частности, в механику падения производительности научного труда, то обнаруживается, что старый одноголовый способ в науке пока не отменен, а нового многоголового способа творчества в науке пока не выдумано. В самом деле, когда речь идет о сапожниках, объединение которых на обувной фабрике дает столь блестящий результат, то здесь сама возможность усиления конечного эффекта, «складывания сил», снижения затрат на единицу продукта предполагает на правах необходимого условия осведомленность, то есть ясную и четкую программу действий, ориентированную на вполне определенный результат: на сапоги, например, или на туфли, или на солдатские башмаки. Зная эти определители, мы можем разбить программу на частные и упрощенные операции, поставить на каждую операцию бывшего сапожника или даже машину, резко повысить частоту репродукции в каждом частном звене-«должности» и, благодаря этому, частоту репродукции по общей программе. Но так происходит, если мы знаем конечные определители. А если мы их не знаем? В этом втором случае, когда мы не знаем, что у нас должно получаться на выходе, а научное исследование никогда не знает этого (будь результаты научного исследования известны до исследования, его незачем было бы проводить), мы, очевидно, лишены возможности разбить неизвестную нам программу (она будет известна как результат исследования) на известную сумму частных операций, частных должностей. Если же мы настаиваем на этом нашем праве, не зная конечного результата, функционально определять должности, разбивать неизвестную программу на известные частные операции, то в применении к тем же сапожникам мы обязаны быть готовыми получить типичную для науки «обувную фабрику», где каждый «исполняет должность», не зная, в чем именно она состоит, и где время от времени отдельным сапожникам «приходит в голову» сработать что-нибудь целиком самому, не полагаясь на помощь и взаимодействие других. Эти случаи возврата к старому способу и будут, видимо, единственным продуктом обувной фабрики, если на нее собраны и посажены на должности сапожники, от которых скрыто, что именно они должны производить сообща.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: