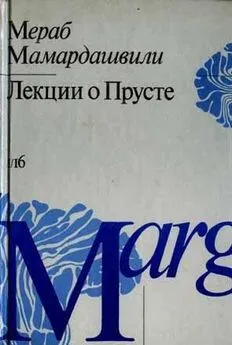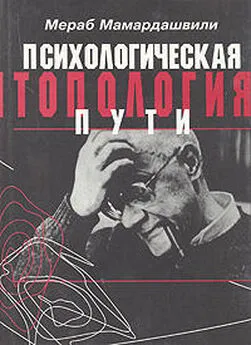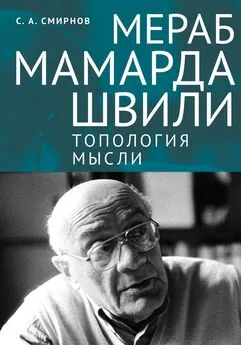Мераб Мамардашвили - Лекции о Прусте (психологическая топология пути)
- Название:Лекции о Прусте (психологическая топология пути)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ad Marginem
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-88059-008-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мераб Мамардашвили - Лекции о Прусте (психологическая топология пути) краткое содержание
М.К. Мамардашвили — фигура, имеющая сегодня много поклонников; оставил заметный след в памяти коллег, которым довелось с ним общаться. Фигура тоже масштаба, что и А. А. Зиновьев, Б. А. Грушин и Г. П. Щедровицкий, с которыми его объединяли совместные философские проекты. "Лекции о Прусте" — любопытный образец философствующего литературоведения или, наоборот, философии, ищущей себя в жанре и языке литературы.
Лекции о Прусте (психологическая топология пути) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но мы ведь договорились, что, во-первых, есть вещи, о которых вообще знать нельзя, и во-вторых, мы вступили в такое измерение, где обращаем внимание не на содержание опыта, а на факт опыта. Мы договорились, что не можем понимать факт опыта как само собою разумеющийся. И я предупреждал, в-третьих, что пространством и временем я называю пространство и время факта опыта, а не содержание опыта. Значит, историю мы вынуждены поместить внутри факта извлечения, казалось бы, того же самого содержания, которое во внешней перспективе рассматривается нами в предположении или в идеальном допущении несущественности самого факта извлечения. В этой внешней перспективе несущественно, когда ребенок узнает, — истина уже существует. Завтра он узнает или послезавтра — не имеет значения с точки зрения внешнего наблюдателя, или, что то же самое, с точки зрения традиционной натуралистической теории. Но мы с вами исходим из другого, что существует все же минимальный интервал, за который можно и нужно успеть что-то сделать. Здесь гигантские, космические макровещи связаны с невидимыми вещами. Помните, я начинал наш курс с «макровещи», со слов из Евангелия от Иоанна и говорил о симптоматической ошибке Пруста. Пруст воспроизводит фразу Евангелия, но делает характерную ошибку. Вместо «ходите» он говорит: «работайте, пока свет с вами», «шевелитесь». Следовательно, допустить изначально случившимся то, что в действительности предполагает работу, — нельзя. Мы вынуждены принимать ограничительные, а не безразличные временные понятия. Если истина есть, то акт узнавания не добавляет к ней ничего, и поэтому временная точка совершенно безразлична. Но мы говорим: интервал — нужно успеть — и тем самым вводим ограничение на временные понятия, то есть в совсем ином смысле применяем категорию времени.
Значит, с одной стороны, есть сознанием и волей контролируемые конструктивные операции, их предметы можно назвать конструктивными предметами, акты извлечения смысла в них дискретны; а с другой стороны, мы имеем дело с каким-то иным процессом. В первом случае мы смотрим на мир и на самих себя в качестве действующих в мире как бы изнутри. Например, мы строим какую-то знаковую конструкцию (все конструкции знания есть знаково-логические конструкции), и изнутри, полагаясь на свойства знаков и следуя определенным синтаксическим правилам на основе этих знаний, контролируя свою деятельность, мы участвуем в организации логических структур. В случае знания все обстоит именно так. Мы контролируем трудовой процесс, видим свойства предметов и организуем их. Однако, с другой стороны, эта реальная продуктивная сознательная жизнь отгорожена от нас экраном, и мы знаем, что этот экран наглядности обладает каким-то свойством и явно отличается от того, что мы делаем изнутри. Ведь когда мы организуем, например, материальные структуры живописного произведения, то через наши действия проявляется что-то другое. Слово «процесс» относится при этом к тому, что хотя и действует через нас, но закрыто для нас экраном. Или представьте себе, что для того, чтобы полететь, взмахнуть крылом, птице или бабочке нужно было бы осуществить это сознательно. Что их полет был бы результатом поэтапных и сознательно контролируемых действий всех элементов, гарантирующих саму возможность полета. Разумеется, такая птица не полетела бы, а сороконожка споткнулась о свои сорок ног и не сделала ни одного шага. И тем не менее полет совершается, а сороконожка ходит. Еще Кант считал это величайшей тайной любой механики. Каким бы великолепным ни было сооружение механики, — движение крыла остается для нее непонятным. В принципе не поддается методам конструирования. Былинка растет, птица летит. Но если это так, что почему мы должны считать, что полет птицы или рост былинки недоступны для механики, а наша собственная логическая деятельность проще, чем жизненная функция бабочки или птицы? Почему не предположить, что это столь же сложно, если не более сложно? Что и в этом случае происходит некий естественный процесс или естественное действие, не являющееся действием, организованным в пространстве контролируемых сознанием актов. Когда через нас и внутри этих актов совершается еще что-то.
Мы часто забываем про подобные чудеса, которые есть на свете. Забываем, что даже простейший акт мысли является чудом и содержит в себе парадокс. Ведь если представить себе мысль как движение, — то действительно становится чудом любая выбранная мысль, та мысль, которая соответствует объекту. Постфактум мы, конечно, можем сказать, что нарисовали предмет таким, как он есть. Что он является причиной того, что так нарисован. Но в действительности это не так. И то же самое относится к мысли, к эмоции, ко всем нашим состояниям. Мысль уравнена здесь для меня с чувствами, с восприятиями, — я не делаю номенклатурного различия. Мы не можем взволноваться, захотев взволноваться. Звучит очень банально, но это не банальность. Это так же банально, как полет птицы или бабочки, движение крыла. Мы не можем иметь мысль — желанием ее иметь. Мысль должна случиться. Как в свое время заметил Бергсон: если бы я знал мир, в котором необходим Гамлет, я написал бы «Гамлета». Но он не написал. Гамлет случился в мире, и потом случился мир, в котором есть Гамлет. Бергсон же хотел этим сказать, что нельзя прийти к мысли ее желанием и представлением. А с другой стороны, мы не можем прийти в движение, не имея итоговой мысли. Потому что когда мы пришли к мысли, то должны еще узнать ее в качестве мысли. Повторяю: даже если у нас появилась мысль, которую мы выбираем как адекватную предмету, мы еще должны узнать ее в качестве таковой. А чтобы узнать — нужно знать. Мы узнаем только то, что знаем. Следовательно, не зная то, что мы узнали, нельзя прийти в движение, и, придя в движение, нельзя остановиться. На каком же основании мы выбираем тогда именно эту мысль, а не другую? Да, основание содержится в узнавании. Но откуда оно? Что имеется в виду, когда я говорю, что существуют естественные действия ума или непрерывные процессы, отличающиеся от контролируемых человеком сознанием и волей дискретных актов извлечения смысла? Рассмотрим простейший акт восприятия — я вижу предмет. Когда в точке пересечения установлена адеквация предмета и восприятия. Разумеется, абстрактно мы не можем знать, что в этом акте участвует координация очень многих элементов. Скажем: вот стол, я воспринял его — это как бы коллапс, окончательный акт — смысл извлечен. То есть завершился некий дискретный процесс на поверхности моего сознания. Но как это случилось? На основе экспликации всех элементов и их координации? Конечно, это невозможно. Сороконожка споткнулась бы. Но ведь это происходит, делается. Вот что нам нужно удерживать как действительную проблему.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: