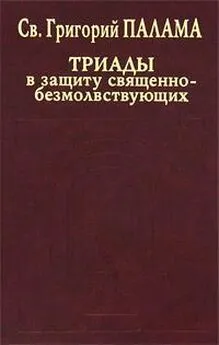Киприан Керн - Антропология Св.Григория Паламы
- Название:Антропология Св.Григория Паламы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:YMCA-Press
- Год:1950
- Город:Париж
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Киприан Керн - Антропология Св.Григория Паламы краткое содержание
Антропология Св.Григория Паламы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Апофатика не есть запрет богословствовать и она не исключает катафатического метода:
"Богословие отрицательное, апофатическое не противоречит и не отрицает богословия катафатического, но показывает, что положительные выражения о Боге, будучи истинными и благочестивыми, для Бога однако не то, что они для нас. Подобно тому, как Бог имеет ведение о существующем, имеем и мы некоторое ведение; но мы познаем все, как существа и явления, тогда как Бог узнает не как существа и явления, ибо Он еще и до бытия существ знал это нисколько не хуже. Поэтому тот, кто скажет, что Бог не знает сущего, как сущее, тот не противоречит утверждающему, что Бог знает сущее, и знает его именно как сущее. Может оказаться, что и положительное богословие приобретает значение от богословия отрицательного, как говорится, что всякое знание имеет дело с каким-нибудь предметом (подлежащим), т. е. с тем, что познается, а знание о Боге не говорит ни о каком предмете. Это то же, что сказать, что Бог не знает сущего, как сущее и не имеет ведения вещей, какое имеем мы. Таким же образом можно сказать гиперболически, что Бог и не существует. Но когда выражаются так, чтобы показать, что неправильно говорить о Боге, что Он есть, ясно, что, пользуясь апофатическим богословием не гиперболически, а по его несовершенству, приходят к заключению, что Бог вообще никогда и не существует. Это уже является чрезмерным нечестием" [1465] [1465] Сар. 123, col. 1205 D – 1208 А.
.
Из сказанного ясно, что рождающиеся в апофатическом методе антиномии не суть абсурд.
"Утверждать то одно, то другое, раз оба утверждения верны, свойственно всякому благочестивому богослову, а противоречить самому себе свойственно совершенно лишенному разума" [1466] [1466] Сар. 121, col. 1205 A; cf "Theophan." col. 917 AB; 945 A.
.
Эти конфликты разума и антиномии находят свое наилучшее разрешение в живом литургическом опыте Церкви. В богословствованиях о догматах веры открываются необозримые дали и разверзаются бездны головокружительные.
Мы намеренно говорим: "головокружительные". Это совершенно точно выражает церковная песнь словами: "недоумевает всяк изык благохвалити по достоянию, изумевает же ум и премирный…" [1467] [1467] Богоявление, утро, 1-й канон, 9-ая песнь, ирмос.
. "Изумевает", страдает головокружением. Полное "изумевание" охватывает всегда нашу мысль, когда она соприкасается с несоединимыми понятиями: совмещения Вечного во времени, соединения Абсолютного Божества с человеческой ограниченностью и т. д. Церковь в своем мистическом восприятии Халкидонскоего догмата, в стихирах и канонах повечерий предпразднества Рождества Христова умиряет нашу взволнованную мысль дерзновенными прозрениями своего литургического богословия о сочетании недр Св. Троицы с убогим Вертепом, Неба с Вифлеемом, Невместимого Слова с Девическою утробою и т. д.
Как может например разум принять и осмыслить всю глубину тайны Евхаристии. Как когда-то на берегах Тивериады это слово о Небесном Хлебе показалось некоторым "жестоким" (σκληρός суровый, странный) и "мнози от ученик Его идоша вспять" от того часа (Иоанна VI, 60–66), так и теперь, да впрочем и всегда эта тайна не вмещается в сознание, ум "изумевает" и, взволнованный, ищет ответа на "жестокое" слово.
И никакие умствования о моменте литургийного совершения, никакие формулы богословов об Евхаристии, и схоластические подразделения в Св. Дарах на "субстанции" и "акциденции" не успокоят нашего сознания. Слово остается "жестоким"… Только в непосредственном переживании Евхаристической Жертвы, в служении Ее и приобщении целостно постигается эта тайна, приемлется и ум успокаивается. Точно так же, когда на утрени Вел. Четверга мы читаем эти изумительные по глубине и красоте слова о "Всевиновной безмерной Премудрости", уготовляющей "душепитательную трапезу" и "созывающую высоким проповеданием", то тогда и сами мы в своем непосредственном церковном восприятии, всецело сливаясь со словами этого канона, идем "высокими умы" насладиться "странствия Владычня и бессмертныя трапезы", уготованной на "горнем месте". И мы сами со апостолами уготовляем на этом же горнем месте "пасху, ею же ум утверждается". В интуиции, в той целостности церковной жизни, наш ум, благодаря непосредственному литургическому опыту Церкви находит примирение и сочетание богословия отрицательного и утвердительного.
Точно то же переживаем мы и в Вел. Субботу, когда воспеваем "Христу умершу" и уснувшему "жизнеподательным сном" в "мале гробе"; когда снова и снова ум изумевает и восстает, когда несоединимое и недомыслимое видится нашим духовным взором в предлежащей Плащанице.
Если головокружительна тайна боговочеловечения, если мы недоумеваем, как "Слово плоть бысть", то Крест Сына Человеческого есть поистине безумие для эллинов, как древних, так и современных. Страшный Суд сынов людских над Сыном Божиим, смерть и погребение Богочеловека, и в то же время неоставленность Им мира, – это свыше сил нашего разумения. И когда мы молитвенно переживаем, что "во гpoбе плотски, во аде же с душею яко Бог, в рай же с разбойником и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом", – когда мы у Плащаницы созерцаем субботний покой Творца субботы, уснувшего сном сия великий субботы, то сил больше нет… "Волною морскою" поднимается и в нас наше литургическое восприятие этого субботнего покоя, и мы "исходное пение и надгробную песнь" воспеваем. И пусть мы этого не разумеем рационалистически, пусть кружится голова, но все же мы не только веруем, не только доверяем предположительно, что это может быть, но и знаем, опытно знаем, богослужебною интуициею приемлем целостно, что "воскреснут мертвии и восстанут сущии во гробех, и вси земнороднии возрадуются". Для литургического переживания, не знающего границ времени, живущего и прошлым, и настоящим, и будущим, как одинаковыми реальностями, это так. Мертвии восстанут. Богочеловек уснул субботним покоем и восстал. Тварь еще рыдает, солнце скрыло лучи, звезды отложили свет, но для нас "сия суббота есть преблагословенная, в ней же Христос, уснув, воскресе тридневен".
И во всем этом церковном созвучии несказанного богатства напевов, слов и красок, в этом "ужаснися бояся небо", в этом "не рыдай Мене, Мати", в этом чтении изумительных прозрений Иезекииля (гл. 37) о сухих костях, "совокупляющихся каяждо ко составу своему", в этом всем – действительное дыхание "оживляющего мертвые Духа, приходящего от четырех ветр". Во всем этом, что необъяснимо внецерковному сознанию, как необъяснимо сияние света слепорожденному и сладость созвучий глухому, – в этом всем примирение всех антиномий, соединение бездн неба и ада, смерти и воскресения, гармоническое сочетание апофатики и утверждений. Антиномическое богословие не есть нагромождение абсурдов и нелепиц, но целостное охватывание всех бездн и недосягаемых глубин, открывающихся дерзновенному зрению богослова. Экстатический Эрос богословствующей мысли выходит из себя и, встретив в церковном бытии идущий ему навстречу Эрос Божественный, погружается в Него, упокояется в Нем и, умирает для мирского рационализма и логики, воскресает в этих сочетаниях противоположностей. Его свет сияет в этом мраке и его ведение рождается из неведения, как и жизнь возникает в умирающем зерне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: