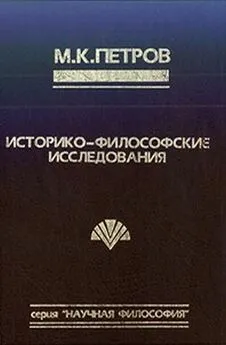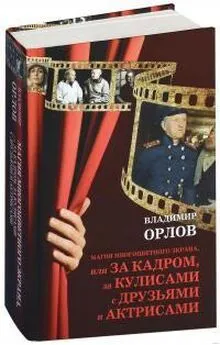Михаил Петров - Судьба философа в интерьере эпохи.
- Название:Судьба философа в интерьере эпохи.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Петров - Судьба философа в интерьере эпохи. краткое содержание
Все написанное Михаилом Константиновичем проникнуто пафосом критики социального фетишизма, в условиях которого возникает убеждение, будто бы человек обязан различным институтам, знаковым системам и структурам всем, а сами они могут обойтись без человека, обладают способностью к саморазвитию. Такое убеждение порождает социальную пассивность, упование на "колесо истории", притупляет чувство личной ответственности за все, что делается здесь и теперь.
Петров Михаил Константинович
Историко-философские исследования.
М., 1996.
512 с.
Судьба философа в интерьере эпохи. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В самом деле, интересен не только, да и не столько, пожалуй, сам факт скрытого или открытого присутствия источника знания, информанта в формальных построениях современной лингвистики, сколько те ситуации и этапы анализа, на которых он появляется как обязательное условие движения.
Мы видим, что там, где лингвист имеет дело с текстом, информант ему не нужен. Не нужен он ему и в анализирующе-синтезирующем теоретическом движении, пока лингвист идет от текста в системе: изъять из текста формализм и систематизировать его в теорию - задача вполне выполнимая для лингвиста-теоретика. Более того, как бы ни ругал лингвистов Таубе за игры, порочащие звание ученого XX века, лингвист-теоретик строго придерживается правил научной игры, совершает движение по тем же правилам, что и физик-теоретик или химик-теоретик: каждый из них опирается на факты своей "природы" (текст - природа лингвиста!) и строит систему-теорию по общим правилам. Ельмслев называет эти правила эмпирическим принципом: "Описание должно быть свободным от противоречий (самоудовлетворяющим), исчерпывающим и предельно простым. Требование непротиворечивости предшествует требованию исчерпывающего описания. Требование исчерпывающего описания предшествует требованию простоты" (5, с. 272).
А вот дальше происходит нечто с научной точки зрения непонятное и мистическое. Связав факты в теорию, физик или химик могут быть, в отличие от лингвиста-теоретика, спокойны: факты никуда не убегут, всегда выводимы из теории, то есть обычная научная теория-система действительно задает узус для наличных фактов, область их репродуктивного воспроизводства, и если появляются новые факты (открытия), описание узуса (теорию) приходится перестраивать, то есть создавать заново. Репродуктивный, способный к бесконечному повтору (или к любому числу экспериментальных проверок) характер научного факта обеспечивает обратимость маневра от фактов к теории и от теории к фактам. Если даже какой-нибудь физик или математик занесет в число постулатов действительности процедур нечто вроде; "Знаки, записанные на бумаге, не покидают ночью занятых мест, и отношения между ними остаются неизменными, то такое постулирование самоочевидных условий будет восприниматься по норме щедринских средних законов: "Ежели бы, например, издать такой закон: всякий да яст", то это будет именно образец тех средних законов, к выполнению которых каждый устремляется без малейших мер понуждения. Ты спросишь меня, друг: зачем же издавать такие законы, которые и без того всеми исполняются? На это отвечу: цель издания законов двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие - для того, чтобы законодатели не коснели в праздности" (15, с. 56).
Но вся-то соль в том, что в лингвистике такие "средние законы" не имеют силы. В отличие от физика или химика лингвист-теоретик, отправляясь от фактов в теорию, менее всего расположен возвращаться к тем же фактам. Если бы теория нужна была лингвисту только для систематизации наличных фактов, все затруднения устранялись бы сами собой как "средние законы". Ничего не стоило бы, например, основываясь на тексте "Истории одного города", создать лингвистическую теорию "Истории одного города", из которой всякий раз с необходимостью вытекала бы и структура, и последовательность глав, и последовательность предложений в каждой из глав. Но как раз такая теория, которая удовлетворила бы любого представителя точной науки, лингвиста-теоретика не интересует. Его интересует не обратимость как таковая, не замкнутое движение: факты - теория - факты, а нечто совсем иное - трансцендентальное движение; наличные факты - теория - новые факты, то есть если предмет лингвистического интереса перевести на язык точной науки, то это была бы теория новых, пока еще не открытых фактов, теория познания опытной науки.
Ясно, что в этом стремлении перебросить формальный мост между наличным и новым лингвистике ничего не оставалось, как двигаться по формальным этажам все большей общности и универсальности, и в любой "порождающей" попытке спуска к новым фактам она неизбежно встречала персонифицированный в информанте источник нового знания, "носителя языка", без которого, и в этом Блумфилд абсолютно прав, предугадывание "представляет наибольшие трудности для дескриптивной лингвистики", как, впрочем, и для любой формальной дисциплины, вменяющей себе в задачу описывать то, чего пока нет. Нам такая задача представляется неразрешимой на уровне научно-теоретического описания. И дело здесь не только в констатации плоских истин вроде той, что нельзя научными методами решать ненаучные задачи, но и в ряде принципиальных соображений о природе познания, о роли гласности, о месте человека в познании, которые мы излагаем в другой статье.
При всем том это ретроградное движение современной лингвистики: дистрибуция - анализ по непосредственно составляющим - порождающие грамматики - трансформационный анализ, с постоянными попытками осуществить "порождающий" спуск в область новых фактов, хотя лингвистика и оказывается в конечном счете почти на исходных позициях, - вызывает у историка философии странное чувство чего-то невероятно знакомого, похожего. Ведь по существу современная лингвистика прошла в обратном направлении тот путь, которым шел когда-то Кант, пытаясь обосновать трансцендентальные свойства формализма именно в такой "перебрасывающей формальный мост" от наличного к новому постановке вопроса.
В свете этого обстоятельства само попятное лингвистическое движение получает смысл reculer pour mieux santer, если, понятно, лингвистике есть куда прыгать. Нам кажется, что, обратив арсенал научных методов на изучение текста и обнаружив пригодность этих методов для выявления и систематизации моментов формальной репродукции при явной их непригодности для анализа порождения, лингвистика тем самым установила недостаточность предложенного Соссюром членения речевой деятельности на язык (систему) и речь. Поведение текста, который поддается сегментации, переводу в систему формальных универсалий, но не поддается "перерождению" в новые тексты, приводит к заключению, что в речевой деятельности присутствует на правах определителя и результат общения, что речевая деятельность отнюдь не представляет из себя, как это казалось Соссюру, нечто хаотическое и диссоциированное, а, напротив, выглядит деятельностью предметной, деятельностью во времени, которая направлена на результаты предшествующего общения, то есть предмет лингвистики в целом, если он взят по основанию речевой деятельности, выглядел бы не двучленной, а трехчленной структурой: система - речь - текст, где под текстом мы разумеем целостный результат предшествующего общения, по поводу которого только и возможна речь как действительная, ограниченная "настоящим" деятельность.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: