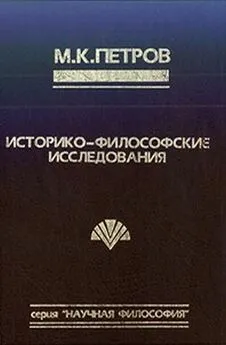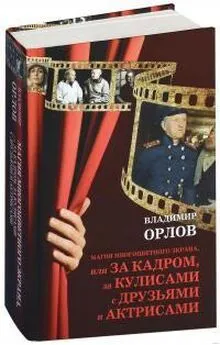Михаил Петров - Судьба философа в интерьере эпохи.
- Название:Судьба философа в интерьере эпохи.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Петров - Судьба философа в интерьере эпохи. краткое содержание
Все написанное Михаилом Константиновичем проникнуто пафосом критики социального фетишизма, в условиях которого возникает убеждение, будто бы человек обязан различным институтам, знаковым системам и структурам всем, а сами они могут обойтись без человека, обладают способностью к саморазвитию. Такое убеждение порождает социальную пассивность, упование на "колесо истории", притупляет чувство личной ответственности за все, что делается здесь и теперь.
Петров Михаил Константинович
Историко-философские исследования.
М., 1996.
512 с.
Судьба философа в интерьере эпохи. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нетрудно заметить радикальное изменение позиции. По Ельмслеву, как мы уже видели, лингвист-теоретик, изъяв из выборки текстов лингвистическую теорию - системное описание узуса, становится всеведущим богом, способным "предвидеть все мыслимые возможности - представить эти возможности, которые он сам не испытал и не видел, реализованными, хотя некоторые из них, вероятно, никогда не будут реализованы" (5, с. 277). Ради такого всезнания и затевалось дело с поиском элементов и их распределений: "Итак, первая задача анализа - произвести разделение процесса текста" (там же, с. 289). Подвигнутый на дело Хэррис вводит в ситуацию "третье лицо" как раз в функции такого всезнающего лингвиста-теоретика, с которым можно обращаться точно так же, как пионеры науки обращались с христианским богом, усматривая в эксперименте способ задавать ему вопросы: "Вместо того чтобы просматривать большое количество текстов в поисках окружений конструкции The cat drank" "Кошка выпила", мы предлагаем ее носителю языка и на основе его ответов составляем список всех окружений этой конструкции. Нужно, конечно, стремиться к тому, чтобы ответы информанта были естественными" (9, с. 544).
Иными словами, мы предполагаем, что некто уже знает то, что нам предстоит узнать, что он уже проделал ту работу, которую мы только начинаем, и, поскольку информант лишь "носитель языка", все мы, в сущности, лингвисты-теоретики ельмслевского толка. Комизм положения только усиливается тем обстоятельством, что функция божественной санкции, которая возлагается на информанта и называется в лингвистике "отмеченностью", испытывает, если дело идет о приведенном в начале анализа тексте 1, а не 2 (его можно было бы составить по формуле: "У попа была собака...", давление запрета на повтор-плагиат, то есть информант, на которого "стараются никак не влиять", чтобы "не вызвать с его стороны употребления неестественных выражений", обязан был бы отбрасывать как невозможные и повторяющиеся все те связанные уже в текст сегменты, которые лингвист собрался исследовать.
Этот исходный и мгновенный тупик, в котором с самого начала оказались работы по машинному переводу, в более общей форме "правдоподобных рассуждений" зафиксировал в то время Бар-Хиллел: "Нет никакой надежды на то, что применение электронных вычислительных машин дискретного действия в области перевода приведет к каким бы то ни было революционным сдвигам. Полная автоматизация этого вида умственной деятельности представляется абсолютной утопией по той причине, кто книги и статьи обычно пишутся для читателей, располагающих определенной суммой знаний и наделенных способностью логического мышления, включая не только собственно логический вывод, но и так называемые правдоподобные рассуждения" (10, с. 205).
После Бар-Хиллела с близкими по содержанию заявлениями выступили почти все пионеры и недавние энтузиасты машинного перевода, которые еще совсем недавно довольно дружно ополчались на первого отступника - Таубе, хотя он, по существу, сказал то же Самое: "Сказать о знаке, изображенном на одной странице, что он есть тот же символ, что и знак, изображенный на другой странице, - значит сказать, что быть символом - это нечто большее, чем просто быть знаком определенного начертания. А это в свою очередь означает, что любой формальный процесс, как бы продолжителен он ни был и с какой бы точностью ни проводился, - это всего лишь вставка между неформальным началом и неформальным концом" (II, с. 116).
Вместе с тем признание тупика не есть еще его осознание, тем более что большинство бывших энтузиастов машинного перевода рассматривают все же возникшее препятствие как формальное препятствие, видят его в "вероятностной" природе языка, то есть отнюдь не отказываются от идеи замкнутого узуса, который может быть представлен и конечным полем вероятных событий. В этом смысле, скажем, анализ Лема, при всей его обстоятельности, остроумии ходов и сравнений не дает все же осознания характера проблемы, остается в кругу представлений о степени формализации, даже когда он прямо критикует поведенческую схему: "Бихевиористский подход представляется мне безнадежным и в самых смелых его логических продолжениях, согласно которым проблему "значения" можно будет полностью отбросить, когда мы научимся с величайшей точностью исследовать материальные процессы, лежащие в основе процессов психических" (12, с. 221-222). Здесь нет чувства тождества логического и поведенческого как характерной особенности научного формализма. Именно это, нам кажется, вынуждает Лема занять не столько осознанную, сколько выжидающую позицию: "Итак, мы стоим перед длительной осадой. Не надо слушать советов тех, кто уговаривает отступить, - это пораженцы, их и в науке немало, - особенно когда осада обещает быть длительной и тяжелой" (там же, с. 224).
Нам тоже кажется, что для паники нет причин. Но вместе с тем не все можно и нужно осаждать, да и осады бывают разные. Тактика барона фон Гринвальдуса пред замком Амальи - не лучший способ. К тому же если проследить общую тенденцию поведения лингвистов перед парадоксом неформализуемости, то она куда больше походит на отступление, чем на осаду. Уже анализ по непосредственно составляющим в той форме, в какой он был предложен Уэллсом, является, по сравнению с "полной дистрибуцией", явным отходом от проблемы, поскольку между языковой конкретностью (уровень терминов) и уровнем лингвистического описания сразу же появилась непроходимая полоса перехода от класса к термину, то есть возникла та самая абстрагирующая мистификация, которая легко позволяет перейти от котенка в семейство кошачьих, но крайне затрудняет обратное движение, всегда можно наскочить на какого-нибудь ягуара или ирбиса. Как раз в этом отрыве от проблемы и возникает почва для той игры, над которой потешается Таубе: "В эту игру играют так. Сначала заявляют, что, если не учитывать незначительные детали инженерного характера, машинную программу можно приравнять самой машине. Затем блок-схему программы приравнивают самой программе. И наконец, заявление, что можно составить блок-схему несуществующей программы для несуществующей машины, означает уже существование этой машины" (II, с. 65).
Этот отрыв, непроходимая полоса в каждом дальнейшем шаге лингвистики не только сохранялись, но и дополнялись новыми отрывами, новыми полосами. В порождающих грамматиках Хомского (13) тот же расчленяющий эффект возникает не только как разрыв между уровнем терминов и уровнем описания, но делает и само описание разорванной структурой. Следуя, скажем, за Хомским, но начиная с уровня терминов, мы легко возводим грамматическую надстройку для любого данного предложения:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: