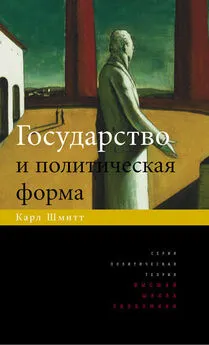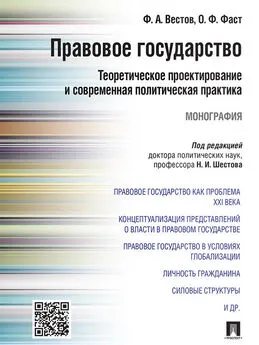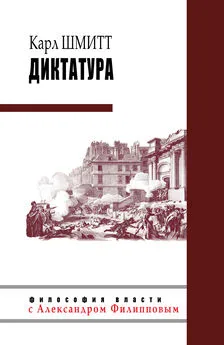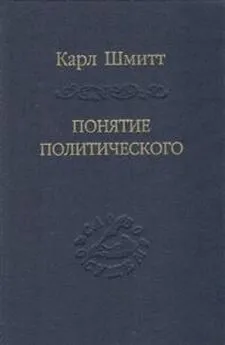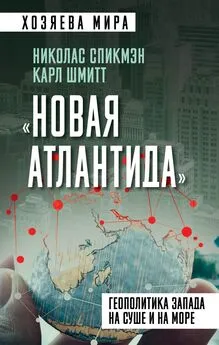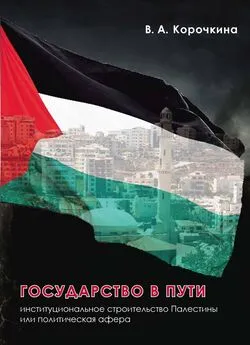Карл Шмитт - Государство и политическая форма
- Название:Государство и политическая форма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Шмитт - Государство и политическая форма краткое содержание
Настоящий сборник работ Карла Шмитта, наиболее спорной фигуры в европейской правовой и политической мысли XX столетия, включает избранные фрагменты «Учения о конституции», фундаментального труда Веймарской эпохи. Помимо статьи, в которой Шмитт полемизирует с плюралистическими теориями, выступая с апологией сильного государства, в сборник также вошли две работы нацистской эпохи, позволяющие полнее представить карьерную и теоретическую траекторию немецкого мыслителя.
Перевод: Олег Кильдюшов
Государство и политическая форма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ст. 45 ИК содержит три различные возможности: полная репрезентация, ограниченная репрезентация и устранение репрезентации главы государства. Согласно ст. 1 рейхспрезидент представляет народ с международно-правовой точки зрения; от имени рейха он заключает союзы и иные договоры с зарубежными державами; он аккредитирует и принимает посланников (полная репрезентация). Согласно ст. 2 объявление войны и заключение мира происходит посредством закона (то есть ратификация главы государства здесь есть лишь формальность международно-правового общения, даже если и остается важной с международно-правовой точки зрения ввиду необходимости проведения международно-правового приема). Согласно ст. 3 союзы и договоры с иными государствами, ссылающиеся на предметы ведения имперского законодательства, нуждаются в одобрении рейхстага (здесь ратификация является предметно важным действием репрезентанта, к которому добавляется содействие народного представительства).
Имперская конституция 1871 года превратила кайзера в международно-правового представителя Германской империи. Согласно ст. 11, аб. З, в случае подобных договоров с иными государствами, если они ссылались на подобные предметы, относящиеся к сфере имперского законодательства, для их заключения было необходимо одобрение бундесрата, а для вступления в силу – разрешения рейхстага. Согласно господствовавшему представлению, это ограничение имело только государственно-правовое значение, то есть не затрагивало полную репрезентацию кайзера в отношениях с другими государствами ( Laband . I, S. 230, II, S. 137ff; Meyer-Ansch?tz , S. 818). Согласно другому представлению, оно ограничивало репрезентацию ( Seydel. Kommentar, S. 163), тогда как, по Йеллинеку ( G. Jellinek . Gesetz und Verordnung, S. 349, 354), требование одобрения народным представительством прибавило к международно-правовому договору (резолютивное) условие, поскольку «репрезентант может обещать только такие действенные с правовой точки зрения договоренности, выполнить которые он сам в состоянии».
Исторически ограничение репрезентации главы государства восходит к французской конституции 1791 года, которая в разделе III, гл. II, сек. 1, ст. 1 гласит: «Законодательная корпорация полномочна ратифицировать заключение мира, союзов и торговых договоров; договор становится действенным только в результате данной ратификации». Далее в конституции 1793 года (ст. 55) – все договоры, 1795 года (ст. 333) – все договоры, 1848 года (ст. 53) – одобрение Национальным собранием всех договоров. Согласно ст. 8 конституционного закона от 16 июля 1875 года договоры ратифицирует президент республики, однако договоры о мире, торговые договоры, договоры, посредством которых обосновываются финансовые обязательства государства, и такие договоры, что соотносятся с личным статусом и частной собственностью французов за границей, окончательны лишь после принятия обеими палатами. Уступка, обмен и приобретение территорий осуществляются посредством закона.
Бельгийская конституция 1831 года превращает короля в репрезентанта государства в отношении иных государств, однако для торговых договоров и договоров, означающих расходы для государства или обязательства для отдельных бельгийцев, требует одобрения (assentiment) обеих палат, а для изменения территории– закона (ст. 68). Этому определению следует ст. 48 прусской конституции 1850 года: «Король имеет право объявлять войну, заключать мир, а также иные договоры с иностранными правительствами. Последние для вступления в силу нуждаются в одобрении палатами, если это торговые договоры или если они означают расходы для государства или обязательства для отдельных граждан государства». Ст. 48 прусской конституции рассматривалась доминирующим учением (в том числе Гнейстом ) не как ограничение репрезентации, а как внутреннее государственно-правовое требование, тогда как в бельгийском конституционном законе обнаруживается требование «обязательной ратификации палатами» ( Errera . S. 49).
В качестве примера проникновения непосредственной демократии особенный интерес представляет частичный пересмотр Швейцарской федеральной конституции 1921 года (ст. 89, аб. З). Государственные договоры с заграницей, заключенные на неограниченный срок или более чем 15 лет, должны быть представлены (помимо разрешения Федерального собрания) гражданам государства с правом голоса (народу) для принятия или отклонения, если этого потребуют 30 тысяч граждан с правом голоса или 8 кантонов. Здесь появляются даже три ратификации: ратификация международно-правовым репрезентантом, также называемое ратификацией разрешение Федерального собрания и ратификация (или отклонение ратификации) народом (см.: Fleiner. Ebd., S. 756).
Практически важное следствие этого демократического упразднения репрезентации заключается в следующем: отказ в ратификации считался ранее чем-то аномальным, почти оскорблением иностранного государства (см. случай французско-английского договора 1841 года о запрете торговли неграми, в ратификации которого Франция отказала, несмотря на подписание; об этом см. речь Гизо в палате депутатов 1 февраля 1843 года). Напротив, сейчас оговорка необходимости разрешения носителей государственного законодательного полномочия является само собой разумеющейся, и отказ в ратификации подписанного договора уже не есть нечто аномальное (см. случай свободных зон в Савойе: французско-швейцарский договор от 7 августа 1921 года был отклонен всенародным голосованием 18 февраля 1923 года и не был ратифицирован Швейцарией. См.: М. Fleischmann. Deutsche Juristen-Zeitung, 1923, S. 643ff). Об общей проблеме «демократия и внешняя политика» пока существует лишь одна обширная монография: J. Barthelemy. Democratic et politique etrangere, Paris, 1917.
IV. Демократия и управление.
1. Управление, осуществляемое согласно демократическому принципу, практически невозможно и согласно демократическим принципам теоретически также не является проблемой, поскольку в управлении (в отличие от правления) не заложена репрезентация. Рассмотрение всех общественных дел гражданами государства с правом голоса было бы возможно лишь в рамках скромного локального самоуправления и являлось бы тогда именно локальным (кантональным или провинциальным) самоуправлением, а не государственным управлением. Однако демократия есть политическое понятие, поэтому ее принципы затрагивают определение политического единства как целого: законодательство и правительство. При демократизации управления речь идет только о том, что осуществляются отдельные тенденции и реформы, соответствующие базовой демократической идее или программам демократических партий, например: выборы чиновников вместо назначения высшим ведомством, определение функционеров избирателями ведомственного округа и т. д. В государстве с парламентским правлением требование демократизации управления легко получает значение того, что функционеры управления определяются соответствующими партиями большинства. Государственное и коммунальное чиновничество таким образом превращается в партийную свиту, причем руководящие чиновники становятся партийными функционерами и избирательными агентами. Веймарская конституция пытается избежать этих последствий, выводя чиновничество в ст. 130 ИК из этой практики свиты и добычи, – «деполитизирует», как часто говорят, причем слово «политика» понимается в неполноценном смысле «партийной политики». Идея политического единства государства должна защищаться ст. 130 ИК от партийно-политического разложения посредством институциональной конституционно-законодательной гарантии. Однако немецкое государственное право не идет столь далеко, чтобы отделить должность чиновника от должности депутата и установить несовместимость , то есть объявить должность депутата (партийного политика) несовместимой с должностью общественного чиновника. Этого вывода из идеи чиновного государства Веймарская конституция не сделала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: