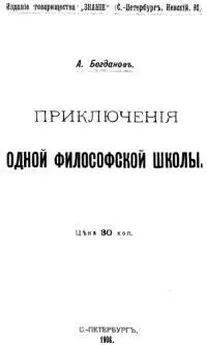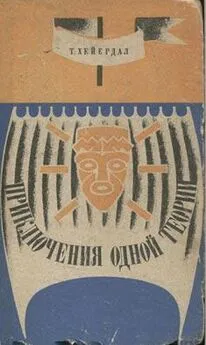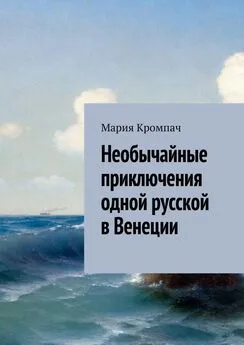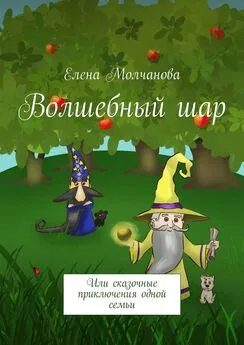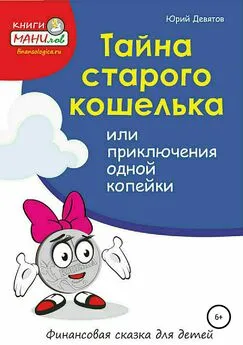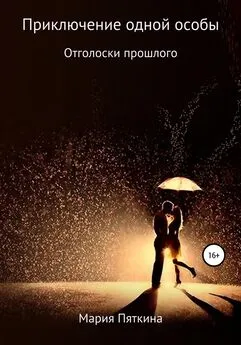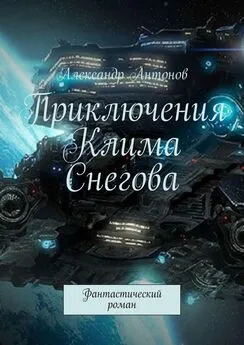Александр Богданов - Приключения одной философской школы
- Название:Приключения одной философской школы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Знание
- Год:1908
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Богданов - Приключения одной философской школы краткое содержание
Предлагаемая читателю книга выдающегося отечественного философа и политического деятеля А. А. Богданова содержит критику идей философской школы Г. В. Плеханова. В работе представлена систематическая картина философской деятельности школы. Автор анализирует взгляды руководителя школы и ее основных представителей — Л. Ортодокс, Н. Рахметова, А. Деборина и других, показывает расхождения учителя и учеников по тем или иным вопросам мировоззрения. Освещается борьба школы Плеханова с эмпириокритицистами, эмпириомонистами и махистами.
Для полноты понимания текста необходимо отметить, что Н. Бельтов — это псевдоним Г. Плеханова.
http://ruslit.traumlibrary.net
Приключения одной философской школы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Философская школа, с такой свирепой враждой относящаяся к эмпириомонизму, должна была, конечно, исследовать и опровергнуть эту картину мира. Что же было сделано школою?
Началось дело с того, что эмпириомонизм был смешан с эмпириокритицизмом. Это было бы еще, пожалуй, ничего; можно сказать: больших изменений сравнительно с эмпириокритиками не находим, считаем маленькой ветвью махизма. — Но курьезно то, что смешение шло наоборот: эмпириокритики перечислялись в эмпириомонизм, о котором большинство их тогда и не слыхивало, и который им должен представляться, как своеобразная метафизика. Бельтов употребляет термин «эмпириомонизм», как равнозначащий с термином «махизм» (см. напр., примеч. к «Л. Фейербаху», изд. 1905 г., стр. 112); а Ортодокс считает даже возможным в прямых цитатах из моих статей заменять слово «эмпириокритицизм» словом «эмпириомонизм» (стр. 177).
За известными пределами эта тактика, впрочем, перестает быть простым «невинным недоразумением» А. Деборин, чтобы отождествить меня с эмпириокритиками, цитирует меня так, что вставляет два лишних слова в начале цитаты, выкидывает дюжину слов, не дожидаясь точки, в конце; и получается, прямо противоположно написанному мною, тот результат, что я признаю себя эмпириокритиком и «демократом», не более того, в философии (рецензия в «Соврем. Ж.», 1907, I, 252–253).
Усовершенствовать этот прием сумел лишь Н. Рах-ов (его брошюра, стр. 65). — Он берет один абзац из моей книги («Эмп-зм», ч. I, стр. 19, 3-е изд.), где излагается точка зрения эмпириокритиков на связь психического и физического, и выкидывает из него начало и конец, где говорится, что это не моя точка зрения, и что я с нею не согласен. Таким образом, опровергаемое мною мнение благополучно приписывается мне, и Н. Рах-ов развертывает далее против меня свой пафос. Но Н. Рах-ов тут все же не оригинален. Тот же самый прием был раньше его применен одним семинаристом, который доказывал не-бытие божие от Свящ. писания: говорится, мол, прямо в псалтири Давида, в таком-то псалме — «несть Бог!» А на деле перед этими словами в псалме сказано: «рече безумен в сердце своем»… [9]
Пробовали, далее, Ортодокс и Н. Рахметов критиковать мои взгляды на опыт, как организованный «индивидуально» или «коллективно». Но они ухитрились так радикально меня не понять, что я при всем желании не могу здесь распутывать созданной ими по этому поводу путаницы: понадобилось бы слишком много места и времени. В общем, у них выходит так, будто бы, по моему мнению, «организованное общество выдумало природу» (стр. 179, «Фил. очерки» Ортодокса). Читатель сам видит, насколько это похоже на истину.
Что касается лидеров школы — Н. Бельтова и Г. В. Плеханова, то они, несмотря на мои приглашения до последнего времени по существу моих взглядов ни разу не критиковали, а ограничивались тем, что бесчисленное множество раз обзывали меня «эклектиком», «ревизионистом», «идеалистом», и особенно — «господином Богдановым» [10].
Один раз глава «школы», напоминая практикам-марксистам пример Фридриха-Вильгельма прусского, который предложил философу Вольфу выбирать между повешением и высылкой в 24 часа, — весьма ясно внушал им мысль о желательности аналогичных мер по отношению к «эмпириомонистам» («Критика наших критиков», стр. IV–V). Дело шло, конечно, только об «идейной» высылке; но административный смысл метода критики от этого, конечно, нисколько не изменяется [11]. Признать подобного рода критику убедительной я, конечно, не мог… Но вот появилась статья Плеханова, посвященная мне специально: фельетон под многообещающим заглавием «Materialismus militant» — «воинствующей материализм». И что же оказалось? На пространстве около 1 1/2 печатных листов мой критик каким-то образом сумел не выйти за пределы все тех же «методов критики»… Это может показаться неправдоподобным, но это так: всякий, кто прочитает названную статью, убедится в этом, и, вероятно, с таким же удивлением, как я… Ни один из философских вопросов, подлежащих выяснению, по существу не рассматривается. Кроме полемики, так сказать, абсолютной, т. е. не заключающей в себе вообще никакого относящегося к философии содержания, там имеется только пространная популяризация таких весьма известных и не раз популяризированных истин, как та, что материализм был в XVIII веке идеологией революционной буржуазии, а что Энгельс был тоже материалистом и ценил французских материалистов, не соглашался со скептиками и агностиками; затем, что существует и теперь ученый-материалист — Эрнст Геккель, и т. д… Каким образом весь этот популярно-исторический материал может служить к опровержению философских идей эмпириомонизма, — это совершенно невыяснено, да вряд ли и может быть выяснено когда бы то ни было. Дело остается в прежнем положении на неопределенное время.
Одно только мне кажется полезным отметить в этой статье, как факт чрезвычайно характерный и многое объясняющий во всей психологии «школы». Он заключается в следующем. В одной из предыдущих статей («Эмп-зм», III ч., предисловие) я указывал, что применяемое Бельтовым определение материализма «очень широкое, и это имеет свои неудобства». Оно сводится к признанию «природы» за первичное, а «духа» за вторичное. При неопределенности этой антитезы получается неясность в разграничении школ, и создается возможность произвола в этом отношении. Укажу, напр., на то, что Энгельс, исходя из этого определения английских агностиков [12], «воскрешающих Юма», относит к материалистам, а Плеханов и его школа все, что находится в каком бы то ни было родстве с Юмом, считают решительным идеализмом. И вот что теперь пишет Плеханов по поводу моего указания на неудобства такой классификации:
«Но подумали ли Вы, м. г., в какое положение ставите Вы себя, нападая на принятое мною определение материализма? Вам хотелось напасть на меня, а вышло, что Вы напали на Маркса и Энгельса. Вам хотелось исключить меня из школы этих мыслителей, а оказалось, что Вы выступаете в качестве „ критика “ Маркса. Это, конечно, не преступление, но это факт, и притом факт, в данном случае весьма поучительный. Для меня вообще речь идет не о том, чтобы преследовать Вас, а о том чтобы Вас определить , т. е., чтобы выяснить моим читателям, к какой именно категории любомудров Вы принадлежите».
Я отмечаю только мимоходом явную неправду о моем «желании исключить» Плеханова из школы Маркса-Энгельса; нет, в этой великой школе есть и такие группы, как философская школа Бельтова; административная же точка зрения «исключений», «высылок» и т. под. всегда была мне абсолютно чуждой. Отмечаю также мимоходом определенно выраженное намерение — не «преследовать», а «определять», — т. е., очевидно, и впредь не спорить по существу дела, а… ограничиваться эпитетами. Главное, конечно, не в этом. Главное — в том поразительном умонастроении, при котором считается достаточным указать на то, что Энгельс был такого-то мнения, а кто с этим не согласен, хотя бы по такому вопросу как выбор удобной классификации, тот уже есть «критик», и исследовать дело по существу уже не требуется — можно «определять»…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: