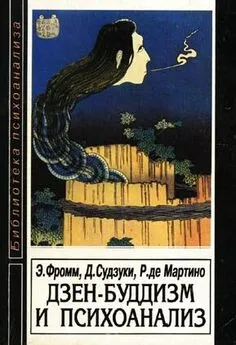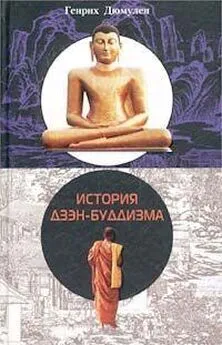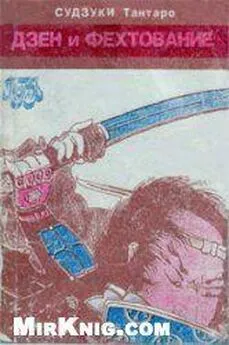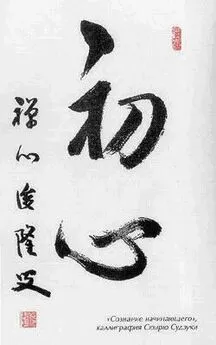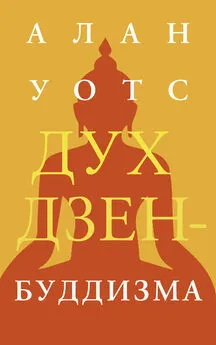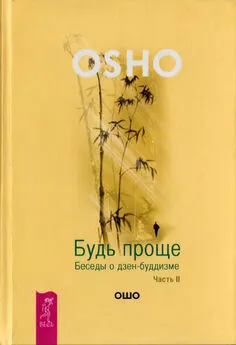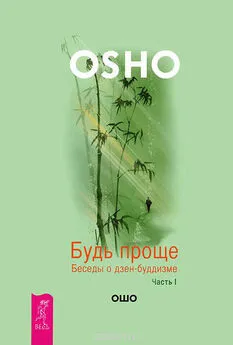Дайзетцу Судзуки - Дзен-буддизм и психоанализ
- Название:Дзен-буддизм и психоанализ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Весь Мир
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-7777-0023-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дайзетцу Судзуки - Дзен-буддизм и психоанализ краткое содержание
Дзен-буддизм возник на Востоке, психоанализ — на Западе. На первый взгляд, между двумя диаметрально-противоположными системами, порожденными различными цивилизациями, не может быть ничего общего. Однако начиная с 30-х годов нашего столетия последователи психоанализа все чаще и чаще обращают свои взоры к дзен-буддизму, а к концу 50-х многие становятся его увлеченными сторонниками. Это произошло, вероятно, потому, что в центре внимания обеих систем — Человек; в одном случае его психическое, а в другом — духовное здоровье. Точки соприкосновения дзен-буддизма и психоанализа очевидны, о чем свидетельствует эта книга. Своим появлением она обязана симпозиуму, посвященному проблемам взаимоотношений дзен-буддизма и психоанализа, который был проведен в Автономном национальном университете в г. Мехико.
http://fb2.traumlibrary.net
Дзен-буддизм и психоанализ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Попытка регрессивного ответа на проблему существования может принимать различные формы. Все они несостоятельны и ведут к страданию. Единожды оторвавшись от дочеловеческого, райского единства с природой, человеку уже никогда не вернуться назад — два ангела с огненными мечами преграждают ему обратный путь. Только в смерти и в безумии может совершиться такой возврат, но не в жизни и не в здравом уме.
Поиски регрессивного единства могут происходить на разных уровнях, которые одновременно являются различными степенями патологии и иррациональности. Человек может быть одержим страстью возвращения в материнское лоно, в мать сыру землю, в смерть. Если подобная страсть является всепоглощающей и ей нет противовеса, то итогом ее будет самоубийство или сумасшествие. Менее опасной и патологической формой регрессивного поиска единства является привязанность к материнской груди или твердой руке, к приказу отца. Различия между такими привязанностями и целями соответствуют различиям между типами личности. Остающийся у материнской груди — это вечно зависимый сосунок, испытывающий эйфорию, когда его любят, лелеют, защищают, когда им восхищаются и т. д., это дитя, переполняемое нестерпимой тревогой при малейшей угрозе отделения от любящей мамочки. Человек, зависимый от отцовского приказа, может проявлять немалую инициативу и быть активным, но всегда при одном условии — должен существовать авторитет, который отдает ему приказы и обладает оценивающей и наказующей властью. Другой формой регрессивной ориентации является деструктивность, целью которой выступает преодоление обособленности в страсти к разрушению всего и вся. Это может проявляться как желание поглотить, включить в себя все вокруг, при котором мир в целом и каждая его часть воспринимаются как пища, либо просто как стремление уничтожать все, кроме одной вещи — самого себя. Имеется еще одна форма избавления от страданий, причиняемых обособленностью, — постепенное выстраивание собственного Я как со всех сторон укрепленной и несокрушимой «вещи». В этом случае человек воспринимает себя как свою собственность, свою силу, свой престиж, свой интеллект.
Выход из рефессивного единства сопровождается постепенным преодолением нарциссизма. Ребенок вскоре после рождения даже не отдает себе отчета в реальности, существующей вне его, в смысле чувственного восприятия; он еще находится в неразрывном единстве с материнской грудью, в состоянии, предшествующем всякому делению на субъект и объект. Через какое-то время у каждого ребенка развивается способность к дифференциации, но лишь в самом очевидном смысле, как способность проводить различие между Я и не-Я. Однако в аффективном смысле полное взросление требует преодоления нарциссической позиции всезнания и всемогущества. Эта нарциссическая установка хорошо заметна в поведении детей и невротиков, с тем отличием между ними, что у первых она обычно осознается, тогда как у вторых бессознательна. Ребенок принимает реальность не такой, как она есть, но такой, как ему хочется. Он живет своими желаниями, его взгляд на мир соответствует его желанию. Если желаемое не удовлетворяется, он приходит в ярость, выражающую стремление насильственно изменить мир (посредством отца или матери) таким образом, чтобы тот соответствовал его желанию. В случае нормального развития ребенка эта установка постепенно меняется на более зрелую — на осознание и принятие реальности, ее законов, а тем самым и ее необходимости. В случае невротической личности неизменно обнаруживается, что она к этому так и не приходит, сохраняя нарциссическую трактовку реальности. Невротик подгоняет реальность под свои идеи, а когда он понимает, что это ему не удается, то реагирует двояким образом — либо пытаясь совершить насилие над реальностью, дабы добиться ее соответствия своим желаниям (то есть осуществить нечто невозможное), либо всецело отдаваясь чувству бессилия от того, что невозможное неосуществимо. Понятие свободы, которым располагает такая личность, сознает она это или нет, есть понятие нарциссического всемогущества, в то время как представление о свободе развитой личности предполагает признание реальности и ее законов, деятельность с учетом этих законов, в соответствии с необходимостью, продуктивное соотнесение себя с миром и овладение им благодаря силам своего ума и чувства.
Различные цели и пути их достижения изначально не представляют собой различных систем мышления. Это — различные способы бытия, различные ответы целостного человека на вопросы, поставленные перед ним жизнью. Подобные ответы мы находим в разных религиозных системах. В истории религии от первобытного каннибализма до дзен-буддизма род человеческий предложил лишь несколько ответов на вопрос о существовании, и каждый человек своей жизнью дает один из таких ответов, хотя обычно он не осознает, какой именно. В нашей западной культуре почти каждый думает, будто он дает ответ либо в духе христианской или иудейской религии, либо с точки зрения просвещенного атеизма. Но если бы мы могли осуществить своего рода рентгеноскопию ума, то обнаружили бы огромную массу поклонников каннибализма и тотемизма, немало идолопоклонников — и совсем немногих христиан, иудеев, буддистов, даосов. Религия есть формализованный и разработанный ответ на вопрос о человеческом существовании. Так как в ней мы принимаем этот ответ совместно с другими людьми в нашем сознании и посредством ритуала, то даже самая низменная религия вызывает ощущение разумности и безопасности. Когда такого соучастия нет, когда регрессивные желания противостоят сознанию и требованиям существующей культуры, тайной индивидуальной «религией» оказывается невроз.
Чтобы понять конкретно пациента — или любого человека вообще, — требуется установить его личный ответ на экзистенциальный вопрос, иными словами, его тайную индивидуальную религию, которой он отдает все свои силы и всю свою страсть. Большая часть того, что считается «психологическими проблемами», — лишь вторичные следствия базисного «ответа», а потому бесполезно «лечить» до того, как был понят этот базисный ответ — тайная, приватная религия.
Возвратимся к вопросу о благоденствии — как определить его в свете сказанного выше? Благоденствие — это состояние, когда достигнуто полное развитие разума, причем не только в смысле здравого интеллекта, но уловления вещей, «позволяющего им быть, как они есть», говоря словами Хайдеггера. Благоденствие возможно лишь настолько, насколько преодолен нарциссизм, по мере достижения открытости, чувствительности, пробужденности, пустоты (в смысле дзен-буддизма). Благоденствие означает полную аффективную соотнесенность человека с природой, преодоление обособленности и отчуждения, обретение опыта единения со всем существующим. Вместе с тем этот опыт предполагает осознание себя самого как отдельного сущего, как Я, индивидуальности. Благоденствие означает, что человек прошел весь процесс рождения до конца, стал тем, кем он потенциально является, обрел полную способность к радости и печали, иначе говоря, достиг состояния совершенного бодрствования, пробудившись из той полудремы, в которой живет средняя личность. Это состояние можно определить также как творческое существование. Человек всем своим существом, как целостная, реальная личность, отзывается, отвечает, реагирует на все сущее — на себя самого, на других людей, — на реальность всего и всех, как они суть сами по себе. И в этом акте подлинного ответа заключается сфера творчества, видения мира как он есть, а также и как моего мира, то есть созданного и преображенного моим творческим уловлением, который перестает быть чуждым миром «где-то там» и становится моим миром. Наконец, благоденствие означает выход за пределы собственного Я, отказ от алчности, прекращение попыток охраны и возвеличивания Я. Свою самость нужно испытывать в акте бытия, а не владения, сохранения, защиты, использования.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: