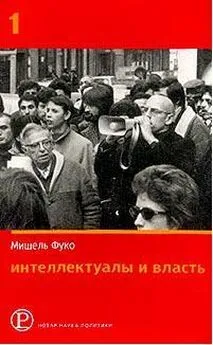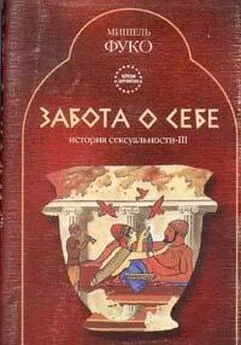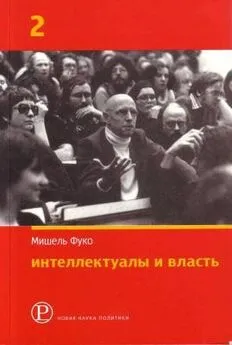Мишель Фуко - Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности
- Название:Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Касталь
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-85374-006-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мишель Фуко - Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности краткое содержание
Сборник работ выдающегося современного французского философа Мишеля Фуко (1926 — 1984), одного из наиболее ярких, оригинальных и влиятельных мыслителей послевоенной Европы, творчество которого во многом определяло интеллектуальную атмосферу последних десятилетий.
В сборник вошел первый том и Введение ко второму тому незавершенной многотомной Истории сексуальности, а также другие программные работы Фуко разных лет, начиная со вступительной речи в Коллеж де Франс и кончая беседой, состоявшейся за несколько месяцев до смерти философа.
Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак: "археология". "Археология безумия", например, в рамках которой речь уже больше не идет об "изначальной сущности" человека, а "безумие" берется не как натуральный и всегда равный себе объект, но рассматривается относительно исторических условий своего конституирования — как феномен, "порожденный" различными дискурсами и практиками, которые с ним имеют дело. И все же складывается впечатление, что подобного рода критический анализ распространяется не на все, с чем Фуко сталкивается в опыте "безумия". Складывается впечатление, что если он и отказывает психологии, психиатрии как и любому другому претендующему на "научность" знанию — в праве на истину о безумии, то только для того, чтобы отчетливее проступила фигура " подлинного " безумия, скрытого за различными его масками и превращениями, лишенного слова, которое ему следует вернуть; как если бы существовал некий " изначальный " опыт безумия, отличный от всех его исторических форм, находящийся как бы по ту сторону и несущий какую-то важную истину о человеке, которую следует выслушать [127]. Речь, стало быть, идет не об "истории познания", пишет Фуко в предисловии к Истории безумия , "но о рудиментарных движениях некоторого опыта". Безумие следует попытаться ухватить "во всей его первозданности, до всякого пленения знанием"; а для этого — поскольку собственным языком оно не обладает — "следовало бы прислушаться, склониться к этому бормотанию мира, попытаться разглядеть столько образов, которые никогда не стали поэзией, столько фантазмов, которые никогда не достигли красок бодрствования" ( Histoire de la folie , p.VII). И при этом в следующих же фразах Фуко со всей определенностью заявляет, что это "невозможная задача", что единственное, с чем здесь можно иметь дело, — это сам "жест раздела", который конституирует одновременно и "разум", и "неразумие" (одной из форм которого является "безумие"), а установка на то, чтобы "все страдания и бессмысленные слова" безумия "ухватить в их диком состоянии, сама с неизбежностью принадлежит тому миру, который их уже пленил" ( ibid .).
Что же важно для Фуко в "опыте безумия"? То, главным образом, что он оказывается напрямую связанным с судьбами разума . Но взгляд его на безумие в этой точке как бы двоится. Конечно, безумие в описании Фуко прежде всего предстает как "историческая совокупность" различных знаний, институций и соответствующих практик (таких как установление недееспособности, отчуждение от прав, интернирование, контроль и нормализация), которые устанавливают обязательные для всех правила, границы и пределы. Однако Фуко снова и снова оказывается — внутри языка искусства, но также и внутри самой философской мысли — перед очевидностью опыта преступания этих границ, или опыта "трансгрессии". Отсюда особое внимание Фуко к различным формам "неразумия", равно как и к соответствующим феноменам творчества, часто поэтому авангардным или маргинальным; отсюда же и устойчивый интерес к целому ряду фигур, для него этот опыт — в прошлом или в настоящем олицетворяющим. Нерваль, Руссель и Арто, Гельдерлин и Ницше — вот имена, которые чаще всего называет Фуко, говоря об опыте трансгрессии. И, конечно, имя Батая, с которым в первую очередь связываются у Фуко и понятие трансгрессии, и понимание опыта как "опыта трансгрессии". Важно подчеркнуть, однако, что речь здесь идет об опыте, у которого если и есть "субъект", то им оказывается уже не отдельный человек, но, положим — как это было в первой половине 60-х годов — "язык" (langage). Эта тема "бессубъектности" опыта трансгрессии появляется у Фуко снова и снова: "язык, который говорит как бы сам собой — без говорящего субъекта и без собеседника", — читаем мы в Истории безумия ( Histoire de la folie , p. VI), или в "Предисловии к трансгрессии": "язык раскрывает свое бытие в преодолении своих границ", "язык говорит то, что не может быть сказано" ( Dits et ecrits , t.I, p.247).
Судьба представления об "опыте трансгрессии" так же двойственна, как и оно само. От того в нем, что могло дать хотя бы малейший повод для натуралистического толкования [128], Фуко будет пытаться впоследствии освободиться. Это будет делаться как косвенно — в форме критики герменевтической установки на "выслушивание истины", на "поиск тайных смыслов" и на "разведывание глубин" (как это можно видеть в Порядке дискурса или в работе "Ницше, Фрейд, Маркс"), так и прямо. "Речь не идет о том, — пишет он в Археологии знания , развертывая свое представление о дискурсе и об археологии как методе его анализа, — чтобы пытаться реконструировать то, чем могло бы быть безумие само по себе — безумие, как оно будто бы дается некоему опыту, первоначальному, основополагающему, смутному, едва артикулированному, а затем будто бы организуется (переводится, деформируется, переодевается и, быть может, подавляется) дискурсами […]" ( L'Archeologie du savoir , p.64). И чтобы ни у кого уже не оставалось никаких сомнений, Фуко делает здесь сноску: "Это написано против темы, в явном виде представленной в Истории безумия , присутствующей там во многих местах, особенно же — в "Предисловии"" ( ibid .). "Предисловие" это, разумеется, из второго издания Истории безумия (1972 год) будет исключено [129]. Во многом именно в противовес представлению, что где-то за "словами" существуют сами "вещи" в своей "изначальности", и будет в конце 60-х годов развертываться понятие дискурса , которое соотносится с анализом, имеющим дело не с отношениями между "словами" и "вещами" ("языком" и "реальностью", "понятийным описанием" и "живым опытом"), но с правилами, определяющими режим существования объектов: "Задача состоит не в том — уже не в том, — чтобы рассматривать дискурсы как совокупности знаков (то есть означающих элементов, которые отсылают к содержаниям или к представлениям), но в том, чтобы рассматривать их как практики, которые систематически образуют объекты, о которых они говорят" ( L'Archeologie du savoir , рр.66–67).
Что же касается идеи "преступания границ" — границ, возникающих в силу того, что "культура полагает определивающие ее различия"; границ, внешняя сторона которых (знаменитое "по ту сторону"!) населена в не меньшей степени, чем внутренняя; границ подвижных и изменчивых, индуцирующих появление " опытов-пределов ", то есть попыток их преступить; границ, наконец, которые наличная конфигурация разума стремится зафиксировать и удержать, но которые, тем не менее, и оказываются местом, где мысль только и может развертываться, — эта идея "трансгрессии" навсегда останется в центре философских поисков Фуко. И если в первой половине 60-х годов наибольший интерес для него представляют опыты преступания этих границ внутри практик языка, то чем дальше, тем больше внимание Фуко будет фокусироваться на самой работе мысли (по засеканию и преодолению этих границ), другими словами на работе мысли над самой собой, — на том пространстве, где возможны "опыты-пределы".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: