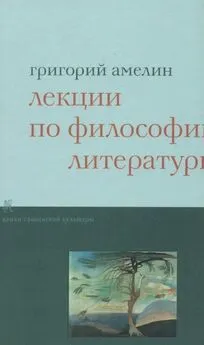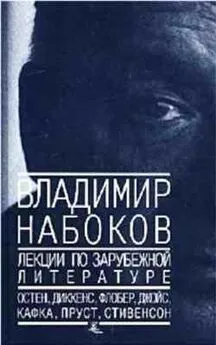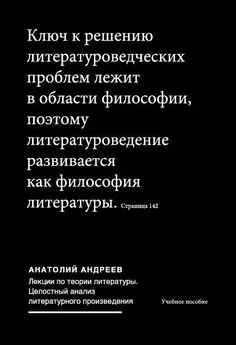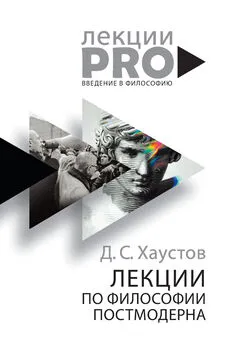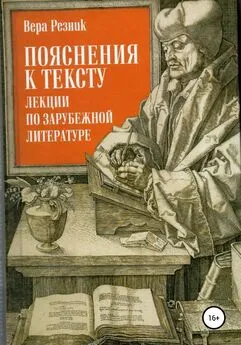Григорий Амелин - Лекции по философии литературы
- Название:Лекции по философии литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Языки славянской культуры
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0083-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Амелин - Лекции по философии литературы краткое содержание
Этот курс был прочитан на философском факультете РГГУ в 2003–2004 годах. Но «Лекции по философии литературы» — не строгий систематический курс, а вольные опыты чтения русской классики — Пушкина, Толстого, Достоевского с точки зрения неклассической философии, и одновременно — попытка рассмотрения новейшей литературы XX века (от Анненского до Набокова) в рамках единства Золотого и Серебряного веков.
Книга чистосердечно для всех, кто интересуется русской литературой.
Лекции по философии литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Спит, как убитая, Тверская, только кончик
Сна высвобождая, точно ручку.
К ней-то и прикладывается памятник Пушкину… (I, 65)
У Маяковского высвобождается ножка. Ночная улица — черный чулок, который снимает старый сладострастник — лысый фонарь. А может быть, просто какой-то старый хрыч снял проститутку? И да, и нет. Можно просто сказать, что фонарь своим светом снимает с улицы покров темноты, освещает ее, а Маяковский сказал так, что вышла целая символическая сцена соблазнения. Это Пастернак и называл «истинным иносказанием». И последнее, метапоэтическое иносказание этой сцены: улица (девушка) — это его, поэта, дочь-песня «в чулке ажурном у кофеен». Пожалуй, самый поразительный пример описания улицы как женщины дан Набоковым в романе «Король, дама, валет»:
«На глянцевитом, гладком асфальте были смутные, сливающиеся отражения, — красноватые, лиловатые, — будто затянутые плевой, которую там и сям дождевые лужи прорывали большими дырьями, и в них-то сквозили живые подлинные краски, — малиновая диагональ, синий сегмент, — отдельные просветы в опрокинутый влажный мир, в головокружительную, геометрическую разноцветность. Перспективы были переменчивы, как будто улицу встряхивали, меняя сочетания бесчисленных цветных осколков в черной глубине. Проходили столбы света, отмечая путь каждого автомобиля. Витрины, лопаясь от тугого сияния, сочились, прыскали, проливались в черноту. И на каждом углу, как знак небывалого счастья, стояла светлоногая женщина, — но времени не было заглянуть ей в лицо, уже звала вдали другая, за нею — третья, — и Франц уже знал, куда ведут эти живые, таинственные маяки. Каждый фонарь, звездой расплывавшийся во мраке, каждый румяный отблеск, каждое содрогание перемещавшихся, перекликавшихся огней, и черные фигуры, поверявшие друг дружке душные, сладкие тайны в углублениях подъездов, и чьи-то полураскрытые губы, скользнувшие мимо, и черный, влажный, нежный асфальт, — все приобретало значение, сочеталось в одно, получало имя…» (2,178).
У Набокова все до краев наполнено эротикой. Асфальтовая гладь — гигантский киноэкран, вертикаль, на которую опрокинута ночная жизнь города. Улицу смешивают, как коктейль. Ежеминутно разбивают и склеивают в прекрасный витраж. В переменчивой картине гуляют столбы света, как лучи прожекторов в праздничном небе, трассируют самые разные цвета. Витрины лопаются и сочатся, как перезрелые плоды. И на каждом счастливом углу женщина, указующая на ту, которая не называема, но обликом и складом которой сочетается этот мир. Ее именем держится все. Проститутка на углу маячит, чтобы стать таинственным маяком и провозвестницей той, о которой все говорит в этом городе.
Ею исполнены все смыслы и предназначенья. И черный влажный нежный асфальт раскрывает свои губы, чтобы поглотить героя всего без остатка.
(Поэт-фокусник «у крыт циферблатами башни». Что он утаивает? Многоязычие, которое предъявляет улицам поэт, напоминающий им, на какие имена они откликаются в других городах мира, как их зовут люди иных стран. Русский словесный рисунок прячет преобразования, перекинутые пестротой иноплеменного словаря «из улицы в улицу»: английское именование «стрит» — в «готов выпе стрить », немецкое «штрассе» — в « сладо страст но снимает», итальянские «страда» и «виа» — в страда ния души и тела, во вьющийся «жгут муки».)
Текстовое пространство расслаивается и утрачивает центр и единую перспективу, а наш взгляд на происходящее не может быть инстантирован, зафиксирован в одной точке, которая теперь постоянно является как бы внешней самой себе. Она не локализуется ни в каком выделенном месте повествования, и автор здесь знает не больше других (но может узнать!). Такие тексты надо читать от конца к началу и… поперек каждого эпизода. Цветаева настаивала: «Почти всегда начинаю с конца.
Пишу с удовольствием, иногда с восторгом. Написав, читаю, как новое, не свое и поражаюсь» [23] Марина Цветаева. Неизданное. Записные книжки в двух томах. 1913–1919. М-, 2000, т. I, с. 57–58.
. Вспомним, как писал Маяковскии. Он брал какое-нибудь трудное, мудреное слово и мучительно придумывал к нему рифму, вернее было бы сказать, что он из этого слова вытягивал, выжимал, как сок из апельсина, драгоценное созвучие — рифму. А из рифмы назад разворачивалась строка и поперек созвучия лирический сюжет.
Юнг так отзывался об «Улиссе»: «…Книгу Джойса можно читать и задом наперед, поскольку у нее, собственно говоря, нет ни переда, ни зада, ни верха, ни низа. (…) Вся книга напоминает червяка, у которого, если его разрезать на части, из головы вырастает хвост, а из хвоста — голова» [24] Mods Merleau-Ponty. L’Oeil et J’Esprit. P., 1964.
. Вслед за поэтом мы должны научиться мыслить нелинейно. Пушкин пишет строчками. Зачеркнет слово, напишет сверху. Но в голове все время целостный текст. Мыслит строчкой, в строчке — рифма. Самое динамичное в строчке — середина, где ритмически меняются слова. А Достоевский пишет: слово, повернет лист — еще слово, потом рисунок У него не вылетает связный текст, вылетают слова, образы — и отнюдь не в линейной последовательности. Вот как мы сейчас друг друга видим в аудитории. Если начать описывать, ляжет в строчки, а ведь видим друг друга мы не в строчках. Достоевский работал очень зрительно. На листе как бы не испорченный идеями текст. И все равно — роман Достоевского можно рассматривать так же, как и стихотворный текст Маяковского. Такое же устройство — у мандельштамовской прозы (долой деление на прозу и поэзию).
Эйзенштейн в одной из своих статей приводит просто гениальный рисунок карикатуриста Саула Стейнберга, который в его описании выглядит так:
«А состоит этот рисунок — всего-навсего — из руки с пером, рисующей фигуру человека по пояс, которая рисует (такую же) фигурку человека по пояс, которая рисует (такую же) фигурку человека по пояс, которая рисует (такую же) фигурку человека по пояс, которая… Графический эквивалент небезызвестным „бесконечным“ стишкам, памятным с детства:
У попа была собака,
И он ее любил.
Она стащила кусок мяса,
И он ее убил.
И в землю закопал,
И надпись написал,
Что — у попа была собака.
и т. д. и т. д.»
Это не повторение одного и того же содержания, а мена его местами: то, что было планом содержания, превращается в план выражения, означаемое становится означающим и т. д Повтор — вещь крайне проблематичная. Повторение одного и того же слова не может быть повторением того же самого смысла — оно прибавляет или отнимает значения, меняет свое синтаксическое место. Тавтология — неиссякаемый источник смысла. Повтор — небьющаяся тара сюжета.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: