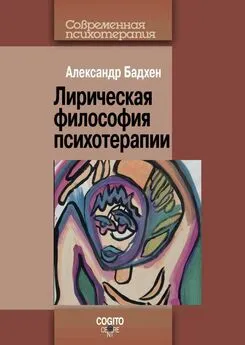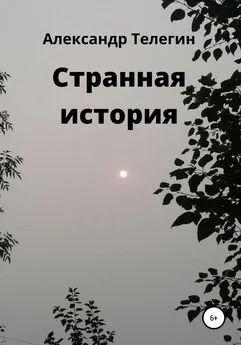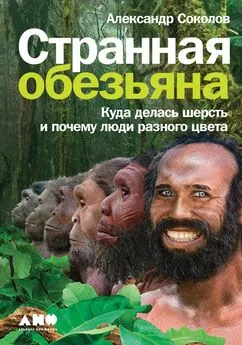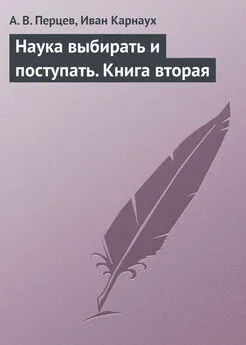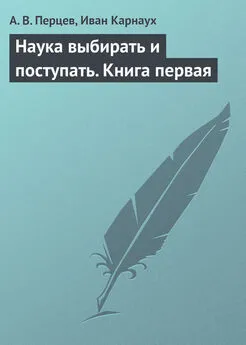Александр Перцев - Странная философия ненасилия
- Название:Странная философия ненасилия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Перцев - Странная философия ненасилия краткое содержание
Конфликтология принадлежит к числу новых дисциплин, сложившихся и оформившихся только во второй половине ХХ века. Споры о специфике этой науки, о ее принципах и методах до сих пор не закончены. Подготовка специалистов-конфликтологов в России была начата только в начале ХХI века – вплоть до последних лет программы подготовки конфликтологов отмечались в документах звездочкой, что указывало на их экспериментальный характер. Тем не менее, конфликтологов в Санкт-Петербургском университете начали готовить, и готовят по сей день именно на философском факультете.
Странная философия ненасилия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И в новое время в Европе (а в России — вплоть до 1991 года) философия тоже, в сущности, располагала этими двумя мечами. Философы вели полемику с идеологическим противником своими средствами, используя «железную» логику аргументов и неприступные бастионы систем. Но если по какой-то причине их полемического оружия оказывалось недостаточно, на помощь призывался меч государства. И государство без стеснения применяло легитимированное насилие, которое, вообще-то, запрещено в философском споре.
Всякое государство в новое время (и в последующие времена) пытается постепенно ограничивать использование своего материального меча, обходясь одним духовным мечом идеологии. Идеальным для государства было бы такое положение, при котором удалось бы полностью скрыть, что философская или богословская идеология защищает государственные интересы, и уверить весь народ в том, что государственные философы и теологи служат исключительно Истине. Казни инакомыслящих постепенно заменяются их гражданским убийством при помощи цензуры. Одновременно государство поощряет пылких энтузиастов, которые искренне верят, что служат Истине, и способны убедить в этом других, но при этом говорят вещи, которые подходят государству и соответствуют его интересам.
Именно такой и была классическая немецкая философия. Но у нее существовала собственная гордость. Она сознательно ставила себя на службу немецкому государству будущего. Это философское государство смогло бы учесть все ошибки французских революционеров и обеспечить самые передовые, просвещенные порядки без кровопролития. В армии же философ — политрук обеспечил бы невиданный боевой дух (именно об этом просил И.Г.Фихте — направить его в войска, сражавшиеся с французами). Но… Государство, становясь философским, должно было отказаться от насилия, а в перспективе — и отмереть вовсе, превратившись в дисциплину разума и внутреннее законодательство разума. Именно в классической немецкой философии появляется тезис о постепенном отмирании государства, подразумевавший, что всякое применение принуждения в перспективе будет заменено рациональным убеждением. Однако свободу философствования немецкие мыслители оставляют только за собой: Кант запрещал философствовать даже государственным чиновникам. Немецкая философия превращалась в государство, а государство — в философию. (Затем эта же судьба постигла философию в СССР).
Следующая позиция на нашей шкале представлена философами, которые отделяют философию от государства. Они требуют свободы слова, подразумевая под ней запрет на какую-то одну общеобязательную государственную идеологию. Государство не должно использовать свой карающий меч для поддержки одних философских концепций и подавления других. Все философы должны быть поставлены в равные условия и состязаться честно. На практике такой «идейный плюрализм» оборачивается зависимостью от денежного мешка — вместо зависимости от государства. В игре по этим правилам выигрывают те, кому удается удачнее других выпрашивать деньги у спонсоров — или у читателей, всячески развлекая и забавляя их. Как дополнение к такого рода наемным философам появляются олигархи, скупающие издательские дома и прочие средства массовой коммуникации.
Следующую позицию на шкале занимает мыслитель, который не желает зависеть ни от государства, ни от «спонсора» (не важно, олигарха или народа, который раскупает тиражи его книг). А.С.Пушкин выразил эту позицию так: «Зависеть от царя? Зависеть от народа? Не все ли мне равно? Бог с ними. Никому отчета не давать. Себе лишь одному служить и угождать». Любое принуждение, любой диктат — даже в форме совета — такой мыслитель считает недопустимым насилием над собой. Он полагает, что между предыдущими двумя позициями нет никакой принципиальной разницы, поскольку победа одних философов над другими достигнута нечестно. В одном случае она обеспечена при помощи государственного насилия, во втором случае — при помощи финансовой поддержки. Но если все решается так, то при чем здесь какая- то «истина» или «общечеловеческие ценности»? Все решают «пробивные способности» философов, которые на протяжении последних веков именовались по-разному («пассионарностью», «харизматичностью», «персональным магнетизмом», «волей к мощи» и т. п.)
Точнее всего сформулировал суть этой позиции Ф.Ницше. Он заявил, что все люди делятся на две категории. Одни устанавливают моральные и иные ценности, а другие принимают их и приспосабливаются. Ф.Ницше видел борьбу идей в современном мире как своеобразное спортивное состязание, которое должно идти без всяких нечестных поддержек со стороны, подсуживаний и удалений. Нужно обеспечить соревнования по честным правилам, хотя, конечно, исключительно в индивидуальном зачете. В такой честной игре неизбежно победит достойнейший, сильнейший, превосходящий других своим интеллектом, волей, талантом и общей культурой. Все проигравшие должны отойти на задний план и стушеваться, а не пытаться, как они это делают сегодня, требовать равных прав в культуре. Здесь, в культуре, голос одного может быть равен голосу десятков тысяч, и существо бесталанное никогда не сравняется с мастером, сколько бы оно ни старалось. Пример Сальери убеждает, что буржуазные доблести — прилежание, старание, трудолюбие, способность копить ценное, расчетливость и т. п. — в сфере культуры ценности не имеют. Эта сфера — последний бастион рыцарства и аристократизма. Если падет и он, если восторжествует «караоке-культура», в которой поют (рисуют, музицируют, играют роли и т. п.) по очереди все заплатившие и каждый по очереди объявляется звездой, то серость демократии восторжествует окончательно и бесповоротно во всех сферах жизни общества. Так говорил Заратустра.
Наконец, мы доходим до последней позиции на нашей шкале. Ее занимают те, кто претендовал на гениальность, но не проявил достаточной «харизмы» («пассионарности», «персонального магнетизма», «воли к мощи» и т. п.). Эти люди не сумели «пробиться». Они не сумели создать и навязать другим своего собственного, победительного и сияющего всеми красками радуги мира. Им остается только требовать культурной «политкорректности»: не все же царствовать гениальным и талантливым, им без того хорошо, пора уступать место в культуре инвалидам, старикам, убогим (бездарным), недужным (с изломанной душой, где таится скопище стыдных пороков). Это — культура неудачника, который выдает свое неумение зарабатывать деньги за нестяжательство, а свою неспособность соответствовать принятым в обществе социальным и профессиональным стандартам объясняет тонкостью и невероятной сложностью своей души. Никаких доказательств этой невероятной сложности (например, в виде выдающихся художественных произведений) он не приводит, так что всем остается только принять на веру его заявления о невыразимости переживаемого им в глубине души.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


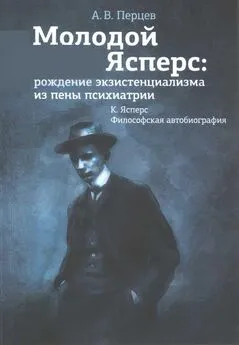
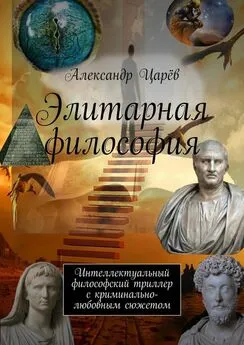
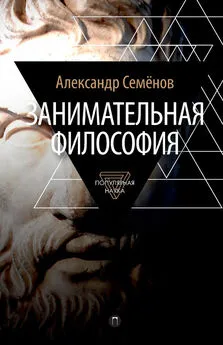
![Александр Соколов - Странная обезьяна [Куда делась шерсть и почему люди разного цвета]](/books/1066936/aleksandr-sokolov-strannaya-obezyana-kuda-delas-sh.webp)