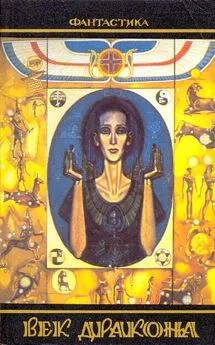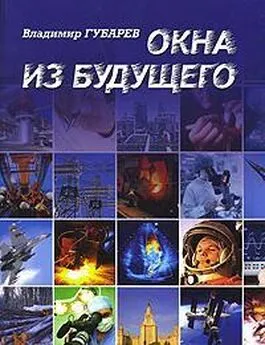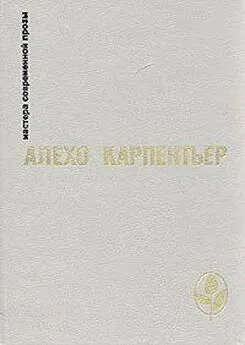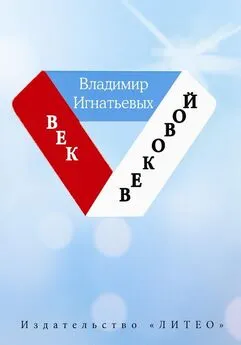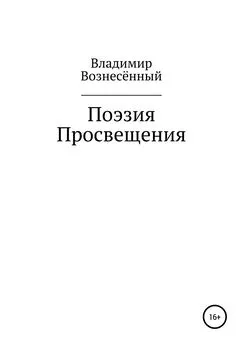Владимир Библер - Век просвещения и критика способности суждения. Д. Дидро и И. Кант
- Название:Век просвещения и критика способности суждения. Д. Дидро и И. Кант
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русское феноменологическое общество
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-7333-0433-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Библер - Век просвещения и критика способности суждения. Д. Дидро и И. Кант краткое содержание
Впервые напечатано в сборнике <Западноевропейская художественная культура XVIII века>, М., Наука, 1980.
Век просвещения и критика способности суждения. Д. Дидро и И. Кант - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Способность суждения стремится подвести особенное (тот предмет, котором я сужу) под общее, под некое понятие. Но, чтобы получить удовольствие, чтобы суждение о предмете не перешло в знание или в осуждение предмета, я должен подводить этот предмет, это особенное под неопределенное понятие, понятие, которое еще только угадывается, которое становится понятием, по отношению к которому я сохраняю внутреннюю свободу.
Мы только что рассмотрели формирование и основной <���замысел> способности суждения. Сейчас речь идет о логическом статуте этой способности (в ее действии, в том удивительно своеобразном <���предметно — беспредметном мире>, который она неизбежно предполагает).
Вот в этом действии, в его схеме, в предвосхищении того удовольствия, которое оно (это суждение) может доставить, и существует понятие ка возможность.
Это именно особый логический статут. Я подвожу предмет суждении под формирующееся понятие, и только под такое — не наличное, но будущее понятие — и может быть подведено особенное. Иначе, если его подводить под понятие наличное (т. е. рассудочное, в полном смысле слова), тогда <���особенное> перестанет быть особенным, неповторимым, уникальным, н станет просто спецификацией общего, видом по отношению к роду, индивидом по отношению к виду.
Иными словами, когда я подвожу особенное под понятие, то особенное — данный предмет суждения — не может быть <���лицом страдательным>; особенное — в процессе суждения — трансформирует общее, изменяет смысл, делает его всеобщим смыслом уникальности этого предмета. Всеобщее понятие, которое требуется логическим статутом способности суждения, есть всеобщность одного предмета, это понятие не может относитьс к другим предметам, оно всеобще в том смысле, что в нем весь <���мир> определяется (и не может быть определен) как этот — уникальный — предмет.
Но дело здесь не только в долженствовании.
<���Особенное> только под неопределенное понятие и возможно подвести; в процессе определения предикат неизбежно изменяется, становится (!) неопределенным. Я невольно определяю не только особенное через всеобщее, но и всеобщее через особенное…
Однако не будем забираться в логические тонкости. Хотя все же отметим еще один момент, раскрывающий взрывную силу <���Критики способности суждения> в цельной системе кантовских <���Критик…>.
Если продумать все логические последствия <���подведения> особенного (предмета суждения) под рассудочное понятие, то окажется, что это — рассудочное понятие — еще надо сделать неопределенным, надо разрушит его рассудочный статут. Но как только такая работа — стихийно, в процесс суждения — начинает совершаться, как только рассудочные понятия начинают — одно за другим — переводиться в статут неопределенного, будущего, только открываемого понятия (здесь изменяется и характер связей между рассудочными понятиями, т. е. сама форма логического движения в сфере рассудка), сразу же, одновременно, начинает осуществляться и другой процесс — раскрывается и делается возможным обращение этих рассудочных (или уже не рассудочных?) понятий на мир <���вещей в себе>. Мне теперь и не надо понимать, какой он есть, этот мир, но только каким он становится, мне теперь необходимо понимать его как возможный. В точке суждения трансформируется вся впрок построенная логика, в этой точке рассудок и теоретический разум, теоретический разум и разум практически вступают в реальное, действенное сопряжение, в настоящую творческую работу. Смысл этой работы ясен. Размышляющий человек (размышляющий над какой‑то творческой проблемой) не просто <���применяет> свои спосоности, он перестает быть медиумом неких уже наличных, мистически <���субъектов> (его собственных сил, отчужденных от него и приобретающий самостоятельную силу) — Разума теоретического и Разума практического.
Он — человек — изменяет эти способности, трансформирует их, движется сфере неопределенных (еще только определяемых) понятий.
Следует только помнить, что под "способностями" здесь — вместе Кантом — предполагаются не физиологические и не психологические возможности человека, но социокультурные его определения (культура мышления и деятельности).
Эти определения и составляют <���априорную> основу мышления.
В точке суждения априорные принципы переформулируются заново (прошлое преобразуется) и становятся <���априорными> уже совсем в другом, необычном смысле — они доопытны лишь потому, что они — впереди, он только формируются, они неопределенны. И именно в своей неопределенности, в своей потенции формообразования, в потенции образования понятий, они, эти способности, и определяют движение мысли… Прошла логическая (не только логическая) культура априорна в процессе творчества (в синтетических суждениях) потому, что она — в будущем, она — в логическом плане — предпонятие. Но — одновременно — это наличная культура мышления, и вся сила ее предпонятийного логического статута в том, что другим определением этого <���предпонятия> оказывается жесткое, определенное, точное, рассудочное понятие, которое — при всей своей жесткости — становится в процессе творчества предметом определения, становится неопределенным.
Вот какие серьезные логические проблемы нащупываются в сфер <���Критики способности суждения>.
Но теперь вернемся в нашу проблему, проблему этой статьи, — в сопряжение кантовской <���Критики…> и культуры Века Просвещения, культур <���просвещенного вкуса>. (Я все же предполагаю, что и читателя этой стать необходимо было поставить в ситуацию героя последней кантовской <���Критики…>. Для этого наш читатель должен — пусть неопределенно — почувствовать, как изменяется вся логика мышления в точке любого, самого безобидного суждения о данном произведении искусства, о данном поступке, картине Греза или о… своей собственной способности суждения!)".
Утверждение, что парадоксы Дидро схематизируются Кантом в антиномии, означает пока только следующее: известные нам <���парадоксы просвещенног вкуса> приобретают в <���Критике…> осознанный характер и понимаются как необходимые по сути дела, но исключающие логически друг друга определени того, <���что есть суждение вкуса>. И все.
Но уже то, что мы сейчас узнали о способности суждения, позволяет понять, во — первых, что антиномии здесь назревают нешуточные, типично кантовские, а во — вторых, что в <���Критике способности суждения> возможно подметить некоторые тайны формирования антиномического мышления вообще. В само деле, здесь существует и выход в безграничность, бесконечность, заставляющий — по Канту — обнаружить неприменимость рассудочных понятий (выработанных на конечных предметах) к бесконечному миру. Здесь и намек н обычный кантовский способ <���разрешать> антиномию — дескать, выясняется, что мы использовали понятие в разных смыслах… В данном случае предмет суждения выступает и в смысле предмета сделанного, искусственного, и в смысл предмета естественного, природного. Но — и это уже существенно — здесь ж оказывается, что этот <���разный смысл> необходим-, без условного наклонения, без <���как если бы> суждение вкуса вообще не может состояться. Необходим По Канту способность суждения находит свое полное выражение становится фокусом всех других самодеятельных способностей познании (практический разум оставим пока в стороне) в <���эстетическом суждении рефлексии>.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: