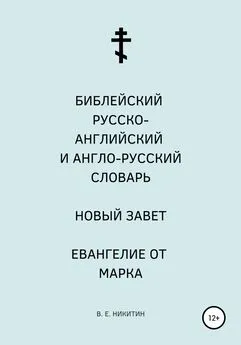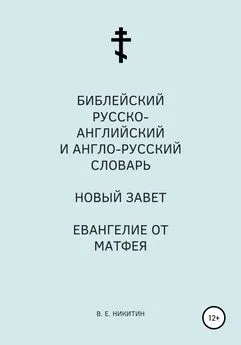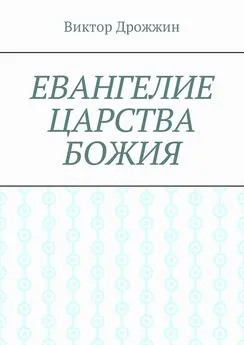Виктор Унрау - Не Евангелие
- Название:Не Евангелие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ориус
- Год:2010
- Город:Липецк
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Унрау - Не Евангелие краткое содержание
В этой книге рассматриваются самые трудные вопросы этики: может ли человек быть альтруистом, и что заставляет одних людей жертвовать собой ради других? Эти вопросы по оценке авторитетного журнала «Science» стоят в одном ряду с величайшими загадками, которые пытается решить современная наука. На главные вопросы этики моралисты пытаются ответить уже несколько веков, и до сих пор никто на них не ответил.
Не Евангелие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Хотя, кажется, сам, этот разочарованный в людях флейтист, никогда и не встречал подобных существ, кроме собак.
Мне кажется, что и Аристотель обольщался этой же добродетелью. Он относил ее к правосудности, и говорил, что ей дивились больше, чем «свету вечерней и утренней звезды».
«Правосудный, — пишет он, — считается способным распределять блага между собою и другими, а также между другими лицами не так, чтобы больше досталось ему самому, а меньше — ближнему».
Правосудного Аристотель называет самым добродетельным, потому что его добродетель направлена на другого, а «это трудное дело».
«Нравственными, — пишет о нравственности, как о научно установленной истине, профессор Преображенский, — единодушно признаются действия, не имеющие себялюбивых или своекорыстных побуждений, вызванные симпатией или состраданием к ближнему, одушевленные стремлением к общему благу и пользе.
Нравственность отождествляется с симпатией, состраданием, самоотречением, самопожертвованием, подчинением своей личности интересам общества или человечества».
Смит находит идеальный пример самопожертвования в мифе о царе Аттики по имени Кодр.
Эталонный образец альтруизма Кодр показал во время войны Афин с дорийцами.
Дорийцы долго не могли взять Афины и послали узнать к оракулу, смогут ли они когда-нибудь ворваться в город. Оракул ответил, что Афины никогда не сдадутся, если погибнет Кодр.
В Афинах тоже узнали об ответе оракула, и тогда Кодр переоделся простолюдином, пришел в лагерь дорийцев, устроил драку с солдатами, и его убили.
Дорийцы узнали, что Кодр убит, сняли осаду с Афин, и ушли ни с чем.
И вот эту готовность стать жертвенным животным других людей называют нравственностью.
Я думаю, в этом требовании жить для других, приносить себя в жертву другим есть что-то несправедливое и пренебрежительное к человеку, есть что-то страшное и языческое.
Рассказывают, в Южной Америке, где свирепствуют пираньи, пастухи, перегоняя скот через реку, жертвуют одной коровой. Они отводят обреченную жертву вниз по течению, загоняют в воду, и когда корова пускается вплавь, вода вокруг нее вскипает кровавой пеной — так пираньи начинают пожирать обреченное и несчастное животное.
Пастухи тем временем спокойно загоняют скот в воду и переправляются на другой берег. Пока пираньи режут на куски жертвенную корову, они не опасны ни стаду, ни пастухам.
И мне кажется люди, которые ожидают жертвенности от других, похожи на этих пастухов и на это стадо. Они могут чувствовать себя в безопасности, пока несчастья и смерть заняты другими людьми.
И среди этой тупой уверенности, что всем вместе хорошо там, где каждому в отдельности плохо, находится не так много людей, похожих на Монтеня, который сомневается в нравственной ценности принципа vivre pour autrui.
«Всякий человек достаточно подвергает себя опасности ради самого себя, — говорит он, — и не следует, чтобы он подвергал себя ей еще ради кого-нибудь другого».
К тому же требовать и ожидать бескорыстной помощи от других, это значит несправедливо «ставить ценность их жизни ниже своей и превозносить свою значимость».
«Для порядочного человека, — говорит Монтень, — недопустимо заставлять другого разделять его судьбу».
Тем не менее, моралисты, как жрецы над каменными жертвенниками, требуют крови, и только не могут придумать такую причину, чтобы человека не волокли на жертвенник, а чтобы он сам пришел и сам себя зарезал.
Проще всего было бы избавиться от этой проблемы, заявив, что нравственное поведение, альтруизм противоречат природе человека.
Ведь говорит же Дарвин, что «естественный отбор никогда не может привести к образованию у существа какой бы то ни было структуры, скорее вредной, чем полезной, потому что естественный отбор действует только на благо каждого существа и через посредство этого блага».
Пейли, на которого ссылается Дарвин говорит еще яснее: «никогда не сможет образоваться орган, со специальной целью причинять боль или какой-либо вред его обладателю».
Правда, в этом месте Дарвин пишет о морфологических структурах. Но если природа не может произвести вредную морфологическую структуру, то почему она должна делать исключение для поведенческих программ?
И, стало быть, мир устроен таким образом, что природа не может создать ни морфологический орган, ни поведенческую программу, предназначенную для блага всего того, что находится вне организма.
«Если бы можно было доказать, — пишет Дарвин, — что какая-либо часть строения была образована у одного вида исключительно на пользу другого вида, это уничтожило бы мою теорию».
Однако природа строго и сурово придерживается законов, открытых Дарвином, а люди, рискуют жизнью и даже умирают, защищая других людей.
Мне кажется, если бы Дарвин имел ясное представление о нравственности, он бы не стал беспокоиться за свою теорию. Но он был в плену тех представлений, которые в этической философии господствовали и господствуют до сих пор.
2. Внутренний импульс нравственного поведения
Итак, нравственная идея этической философии состоит в том, что нравственный человек бескорыстно служит другим людям и готов к самоотречению во имя их блага.
К этому образу нравственности от Эразма Роттердамского до наших дней не нашлось что добавить, и этическая философия все свои силы бросила на поиски внутреннего мотива того поведения, которое принято было считать альтруистичным.
Не знаю почему, после Конта самопожертвование и бескорыстие стали называть альтруизмом. Контовский альтруизм совсем не похож на то, что имеют в виду моралисты, когда говорят о самопожертвовании.
Если этической философии было сложно объяснить, почему люди жертвуют собой ради других, то не так уж и сложно понять, почему контовский альтруист живет для других.
Альтруист Конта не может появиться в таком обществе, где не каждый наравне со всеми может пользоваться общими благами. Человеку в несправедливо устроенном обществе не выгодно и даже глупо ущемлять свои интересы к чужой выгоде.
Победа альтруизма над эгоизмом по теории Конта может произойти только в эпоху позитивизма. Так основоположник социологии называет последнюю формацию в историческом развитии общества.
В эту эпоху каждый человек может наравне со всеми пользоваться общими благами, и именно эта эпоха становится золотым веком альтруистов.
Контовские альтруисты служат не отдельно взятому человеку, а обществу. И постольку, поскольку сам альтруист пользуется благами общественной жизни, то, служа обществу, он служит и себе в том числе.
Строго говоря, альтруизм Конта, это противоположность индивидуализма, и по своему значению близок к коллективизму, если не есть сам коллективизм.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: