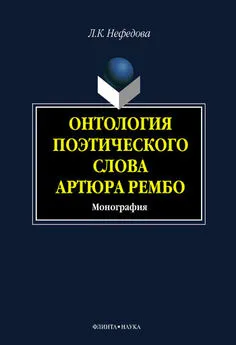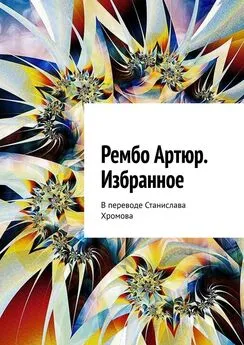Людмила Нефёдова - Онтология поэтического слова Артюра Рембо
- Название:Онтология поэтического слова Артюра Рембо
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978-5-9765-1207-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Нефёдова - Онтология поэтического слова Артюра Рембо краткое содержание
В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.
Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.
Онтология поэтического слова Артюра Рембо - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
ТЕКСТ Д. БАЙРОНА
I would I were a careless
child,
Still dwelling in my
Highland cave,
Or roaming through the
dusky wild,
Or bounding o’er the dark
blue wave;
The cumbrous pomp of
Saxon pride
Accords not with the
free born soul,
Which loves the mountain’s
craggy side,
And seeks the rocks where
billows roll.
ПЕРЕВОД В. БРЮСОВА
Хочу я быть ребёнком
вольным
И снова жить в родных горах,
Скитаться по лесам
раздольным
Качаться на морских
волнах.
Не сжиться мне душой
свободной
С саксонской пышной
суетой!
Милее мне над зыбью
водной
Утёс, в котором бьёт
прибой!
ПОДСТРОЧНИК
к тексту Д. БАЙРОНА
Я хотел бы, чтобы я был
беззаботным ребёнком,
Еще обитающим в моей
Хайландской пещере,
Или скитающимся без
цели сквозь сумерки наугад,
Или подпрыгивающим на
темно голубой волне;
Громоздкость помпезная
Саксонской гордости
Не согласуется со свободно-
рожденной душой,
Которая любит горные
скалистые склоны,
И ищет скалы, откуда
лавины скатываются. [22]
Уже первая строка Д. Г. Байрона «I would I were a careless child», представленная в переводе В. Брюсова как «Хочу я быть ребёнком вольным» разрушает онтологический уровень смысла оригинального текста. Брюсов обратился к глаголу «хочу» в изъявительном наклонении, который довольно трудно считать смысловым эквивалентнтом английского глагола «would», который употребил Байрон. Сослагательное наклонение указывает на иной характер модальности – отношения говорящего к высказыванию. Желание быть ребёнком в переводе В. Брюсова – безапелляционно и, судя по грамматическим средствам, мыслится как вполне реальное по отношению к действительности. Желание быть ребёнком в тексте Д. Г. Байрона – условно и мыслится как нереальное, невозможное по отношению к действительности. [23]Желание быть ребёнком у Байрона звучит как пожелание. Благозвучие потребовало в переводе В. Брюсова формы изъявительного наклонения «хочу». Выражение: «Я хотел бы, чтобы я был», точно передающее модальность желаемого, но невозможного, не вписывалось в бельканто русского романтического стиха как с позиций размера, так и с позиций его синтаксической и фонетической избыточности для русского языка.
Синтаксически избыточно с формально-семантической точки зрения в русском тексте выглядят и повторы Байроном местоимения «Я» и употребление глагола-связки в прошедшем времени. Достаточно короткое английское выражение: «I would I were a careless child», открывающее текст Байрона, включает также и синтаксические отношения сложноподчинённости, которые в переводе на русский язык требуют союзного слова «чтобы», передающего семантику необратимости. Эта семантическая избыточность в рамках одного пусть и сложного сказуемого несвойственна русской грамматике. Вероятно, поэтому переводчик счёл возможным остановиться на русском лапидарном «хочу», изменив тем самым онтологический, базовый уровень вполне определённого чёткого смысла авторского текста. В результате, оставаясь верным законам художественной формы и грамматическим требованиям родного языка, переводчик создает собственную субъективную художественную версию понимания оригинального текста.
В качестве примеров трансформации авторского смысла в художественных переводах обратимся к стихотворениям Артюра Рембо. Сопоставим строки из стихотворения «Sensation» с их художественным переводом, выполненным Б. Лифшицем.
А. РЕМБО
SENSATION
Par les soirs bleus d`été,
J`irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler
l`herbe, menue:
Rêveur, j`en sentirai la
fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner
ma tête nue.
Б. ЛИФШИЦ
ОЩУЩЕНИЕ
В сапфире сумерек
пойду я вдоль межи,
Ступая по траве
подошвою босою,
Лицо исколют мне
колосья спелой ржи,
И придорожный куст
обдаст меня росою.
ПОДСТРОЧНИК
Вечерами синими летними
я пущусь по тропинкам,
Испещрённым зернами,
мять траву мелкую:
Мечтатель, я почувствую
свежесть моими подошвами,
Я позволю ветру омывать
мою голову обнажённую. [24]
Б. Лифшиц изменил образный строй оригинала, введя в свой художественный перевод реалии, отсутствующие у Рембо: «сапфир сумерек», «колосья спелой ржи», «придорожный куст», «босая подошва».
В то же время из художественного перевода исчезли реалии, определяющие онтологическую семантику ощущения у Рембо, такие как «вечера», «тропинки», «зёрна», «трава», «мечтатель», «свежесть».
Изменение системы реалий соответственно привело к изменениям ощущений лирического героя, который у Рембо чувствовал «свежесть своими подошвами» и «позволял ветру омывать свою обнажённую голову», а у Лифшица лирический герой ощущает, как куст обдаёт его влагой росы, как лицо колют колосья спелой ржи. При этом вполне наглядно исчезает активный лирический герой Рембо – мечтатель, цыган, бродяга в башмаках, подбитых ветром, безудержно свободный, устремлённый «сквозь природу» и появляется довольно мягкий, задумчивый лирический герой Лифшица, лицо которому колют «колосья спелой ржи», движение которого закреплёно в локальном пространстве межи. Кроме того усиление сенсорных акцентов осязаний в переводе нивелирует интуитивное мировосприятие, свойственное герою-мечтателю Рембо. Динамика внутренней жизни лирического героя Рембо трансформируется в статику пейзажа у Лифшица.
Обратимся ещё к одному примеру: к переводу П. Антокольским стихотворения «Le dormeur du val».
РЕМБО
LE DORMEUR DU VAL
C`est un trou de verdure où chante une
rivière
Accrochant follement aux herbes des
haillons
D`argent; où le soleil, de la montagne fière,
Luit: c`est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque, baignant dans le frais cresson
bleu,
Dort; il est étandu dans l`herbe, sous la
nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort.
Souriant comme Sourirait un enfant malade, il fait un
somme:
Nature, berce-le chaudement: il a froid.
Les parfums ne font frissonner sa narine;
Il dort dans le soleil, la main sur sa
poitrine
Tranquille. Il a deux trous rouges au côte
droit.
АНТОКОЛЬСКИЙ
СПЯЩИЙ В ЛОЖБИНЕ
Беспечно плещется речушка, и цепляет
Прибрежную траву, и разным серебром
Трепещет, а над ней полдневный зной
пылает,
И блеском пенится долина за бугром.
Молоденький солдат с открытым
ртом, без кепи, Весь с головой ушёл в зелёный звон
весны.
Он крепко спит. Над ним белеет тучка
в небе,
Как дождь струится свет. Черты его
бледны.
Озябший, крохотный, – как будто бы
спросонок
Чуть улыбается хворающий ребёнок.
Природа! Приголубь солдата, не буди.
Не слышит запахов и глаз не поднимает,
И в локте согнутой рукою зажимает
Две красные дыры меж рёбер на груди.
В изображении П. Антокольского природа теряет брутальность и бесчеловечность, ощущаемую в тексте А. Рембо. Исчезает и безумие, ей свойственное. Она с самого начала находится в диалоге с человеком, готова к сочувствию, в то время как у Рембо обращение к безумной природе носит риторический характер. В переводе теряется художественный концепт текста, представленный у Рембо в игре значений слова-понятия «дыра». Дыра в зелени, открывающая вид на обезумевшую реку, соразмерна дырам от пуль в теле солдата. Безумная, яростная, танатальная, а не полная витальных сил природа, таким образом, становится соразмерной убитому человеку. Приведём для сопоставления подстрочный перевод «Спящего в ложбине».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: