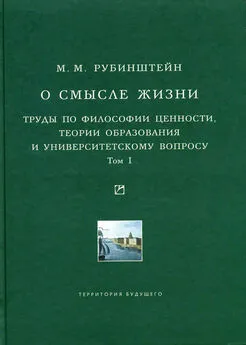Моисей Рубинштейн - О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 1
- Название:О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:5-91129-014-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Моисей Рубинштейн - О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 1 краткое содержание
Казалось бы, в последние годы все «забытые» имена отечественной философии триумфально или пусть даже без лишнего шума вернулись к широкой публике, заняли свое место в философском обиходе и завершили череду открытий-воскрешений в российской интеллектуальной истории.
Вероятно, это благополучие иллюзорно – ведь признание обрели прежде всего труды представителей религиозно-философских направлений, удобных в качестве готовой альтернативы выхолощено официозной диалектике марксистского толка, но столь же глобальных в притязаниях на утверждение собственной картины мира. При этом нередко упускаются из вида концепции, лишенные грандиозности претензий на разрешение последних тайн бытия, но концентрирующие внимание на методологии и старающиеся не уходить в стилизованное богословие или упиваться спасительной метафорикой, которая вроде бы избавляет от необходимости строго придерживаться собственно философских средств.
Этим как раз отличается подход М. Рубинштейна – человека удивительной судьбы, философа и педагога, который неизменно пытался ограничить круг исследования соразмерно познавательным средствам используемой дисциплины. Его теоретико-познавательные установки подразумевают отказ от претензии достигнуть абсолютного знания в рамках философского анализа, основанного на законах логики и рассчитанного на человеческий масштаб восприятия...
О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мы надеемся дальше указать, в каком пункте открывается перспектива гармоничной связи живого мировоззрения с научными выкладками по этому вопросу; пока же нам особенно важно подчеркнуть, что начало всех начал, начало всех вещей – это прямой предмет положительных наук, именно они должны в конечном счете дать ответ на этот вопрос. Философии же, для которой над всем должен господствовать вопрос о подлинном смысле живой, неразложенной действительности, надо идти иным путем, потому что этот абсолют, абсолют положительных наук ее не может удовлетворить, и она никогда не найдет его сама в устойчивой форме. В этом пункте мы решительно расходимся с философской традицией, искавшей абсолюта позади нас и наделявшей его всеми признаками бытия, но бытия элеатского порядка. От такого абсолюта, как мы уже заметили и подчеркивали раньше, в первой части этого труда, нет пути к жизни, к действительности. Они не только идут мимо него, сами по себе, но если из такого статически пребывающего абсолюта делать последовательные, серьезные выводы, то он способен только совершенно обесцветить и обесплодить нашу жизнь и мир; как мы стремились показать это в первой части этого труда, при изучении типов решения проблемы смысла жизни, в этом случае создается клубок неразрешимых мучительных в своей безысходности загадок, так как абсолют все, и его нет возможности тогда освободить от грязи, вины, бессмыслицы – от всего, что не только есть, но и от того, что возможно в мире. Джемс остроумно говорит [1083], что такой абсолют должен передумать все глупости и вздор, которыми загромождена наша жизнь, и вообще обратиться в место свалки не только ценного, но и всякого мусора. Такой бытийственный статический абсолют, абсолют «позади нас» есть вообще все, и потому при нем не нужно больше ничего – все становится излишним, исключенным. Некуда идти и незачем. При таком абсолюте человек и личность совершенно невозможны, действенность и активизм уничтожаются в корне, потому что всякое стремление к чему-либо говорит о том, что чего-то нет, т. е. что абсолют не абсолютен. Все застыло тогда раз и навсегда, и ничего иного быть не может. В прославленной неизменности можно было бы указать только одно преимущество – это способность рационализации, но этот плюс превращается в ничто, если мы учтем при этом, что с исчезновением процесса, изменения, движения исчезает и жизнь, и содержание, и становится в конце концов излишней и невозможной сама познающая мысль.
Вполне естественно, что такой абсолют позади нас ведет неизбежно не только к непреодолимому клубку противоречий, но и к прямой бессмыслице, так как он, как мы это стремились показать в первой части этого труда на исторических образцах, в корне уничтожает деятельность, активизм, свободу, а с ними и личность человека, он поглощает в себе все, и в частности от человека и для человека не остается решительно ничего [1084]. В этом отношении изумительным по своей показательной силе является тот факт, что даже самая оптимистическая концепция на основе такого абсолюта при последовательном проведении приводит для личности к самым безнадежным выводам; она является золотой, но все-таки клеткой, мир неминуемо превращается в пустыню [1085]. Глубоко поучительно, что Спиноза с его неумолимой логикой и последовательностью радикально исключил при своем абсолюте-субстанции всякие проблески свободы.
Такой абсолют, взятый философски, представляется и логически несостоятельным. Он заставляет болеть всеми недугами смешения логического выведения с реальным следованием, меж тем как из такого философского чудища «позади мира», награжденного всеми признаками элеатизма, нельзя вывести реально ни одной, даже микроскопической частицы жизни и движения. Есть только то, что действует, а то, что действует, изменяется само и изменяет другое; что изменяется, то во времени; таким образом понятие бытия имеет смысл (как действительность) только в мире времени и пространства. О чем-то и как-то данном вне этого мира мы можем мыслить, или незаконно очеловечивая иной мир, или же абсолютно не можем его мыслить, а только постулируем нечто верой. Таким образом абсолют позади мира с философской точки зрения является внутренне противоречивым. Если он источник мира, то как сделать от него первый шаг, когда это с ним несовместимо, ибо он тотчас перестает быть абсолютом; если он добро, нам непонятно в мире зло, и обратно; если он тьма, непонятен свет и т. д.
При всех этих перипетиях ясно обнаруживается одна, с нашей точки зрения, глубоко характерная черта, выявляющаяся скрыто или явно; это то, что абсолют, чтобы быть им, не может отрываться от человека или человеческого принципа. Действительность, жизнь – все это говорит именно о сердцевине личности. Как мы это отметили раньше, абсолютным и в области теоретической мысли для нас может быть только то, что коренится в неизменном характере человеческого мышления, в самой его природе; что, значит, не может мыслиться иначе и является самоочевидным. То же самое нужно сказать об абсолютном везде – нигде он не отрывается от человеческого в подлинном смысле этого слова. В старых метафизических системах в абсолюте сгущался просто и наивно человек в целом или в его тех или иных душевных свойствах; у более современных абсолютистов эта струя принимает более утонченный, изощренный характер, измененный до неузнаваемости отвлечением, но все-таки это всегда нечто человеческое, и ничем иным оно быть не может [1086]. При этом никогда не следует упускать из вида, что простой абсолют как таковой, без насыщения его элементами ценности, философски совершенно бессилен что-либо дать, не говоря уже о том, что мы своей мыслью ежеминутно возносимся над ним и хотя бы в одном отношении решительно лишаем его достоинства абсолюта и становимся над ним. Колоссальное, неизмеримое, универсальное чудище в роли абсолюта само по себе еще не покоряет нас; «начало всех начал» ни на йоту не обосновывает и не повышает его ценности, его достоинства, а тем менее нашего уважения к нему. Шопенгауэр показал нам на своем примере в исходном пункте своей системы, как можно этому абсолюту отказать даже в проблесках положительного. Способность вечно быть достаточна для факта, но совершенно недостаточна для смысла. Но тогда, когда в него вносятся элементы ценностей, он становится уже безусловно очеловеченным, да при этом еще, оставаясь «позади» мира, напитывается целым клубком противоречий, то превращая в загадку зло, если он добро, то добро, если он зло и безрассудность.
По отношению к этому абсолюту «позади мира» и применимы слова Джемса [1087], когда он говорит: ведь как абсолют мир не может вызвать нашей симпатии, так как он лишен истории. Абсолют как таковой не действует и не страдает, не любит и не ненавидит; ему чужды потребности, желания и стремления, неудачи и успех, друзья и враги, поражения и победы. Такой абсолют, если бы он был возможен, не нужен, не важен – он совсем в стороне от нас, существует неизвестно для чего, и мы идем совершенно мимо него, вне всякого отношения к нему. И вот, когда мы пытаемся осмыслить все то, что должно быть в подлинном абсолюте, то мы приходим к ряду свойств, которые в бытийственном абсолюте приводят к внутреннему противоречию, к несовместимости, но без труда умещаются в абсолюте, выраженном в сущности сотворенной, в абсолюте как итоге. Исстари в понятие абсолюта входят идея всеохвата, его центральность, неистощимость-бесконечность, абсолют как нечто безусловное, вечное и непреходящее, но дальше все эти признаки пополняются элементами несколько иного порядка – идеей самодовлеющего значения, общеобязательности, качественной определенности, ценности, дееспособности-активности, идеей неистощимого начала жизни и действия. В понятии абсолюта всегда смешивали два понятия, принципиально глубоко различные: абсолют как всеохватывающее начало, количественный абсолют; абсолютное как общезначимое, качественный абсолют, который и охватывает вторую группу свойств, упомянутых нами. Первый – количественный абсолют – это предмет положительных наук, позитивного знания, так как о нем говорит пространственно-временный мир; к нему ведет в своих истоках эмпирическая действительность, изучаемая положительными науками с их особым подходом, с особыми методами. Второй абсолют – подлинно философский абсолют; именно к нему стремится философская мысль; о нем говорит каждый акт подлинной, живой, неразложенной, человеческой действительности, в каждом переживании, и тем больше, чем выше творческий элемент. Платону принадлежит бессмертная заслуга, что он смело и решительно произвел философски совершенно необходимое слияние воедино сущности и ценности (у Платона – прежде всего добро), подчеркнув, что философски в абсолюте важна не пространственно-временная бесконечность – количество, хотя мы и не склонны пренебрегать им, иначе нарушилась бы жизнь и цельность, а центр тяжести лежит в бесконечности совершенства, в полноте значения, в его непреходящем и действенном характере.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: