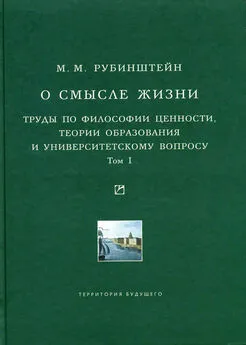Моисей Рубинштейн - О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 1
- Название:О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:5-91129-014-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Моисей Рубинштейн - О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 1 краткое содержание
Казалось бы, в последние годы все «забытые» имена отечественной философии триумфально или пусть даже без лишнего шума вернулись к широкой публике, заняли свое место в философском обиходе и завершили череду открытий-воскрешений в российской интеллектуальной истории.
Вероятно, это благополучие иллюзорно – ведь признание обрели прежде всего труды представителей религиозно-философских направлений, удобных в качестве готовой альтернативы выхолощено официозной диалектике марксистского толка, но столь же глобальных в притязаниях на утверждение собственной картины мира. При этом нередко упускаются из вида концепции, лишенные грандиозности претензий на разрешение последних тайн бытия, но концентрирующие внимание на методологии и старающиеся не уходить в стилизованное богословие или упиваться спасительной метафорикой, которая вроде бы избавляет от необходимости строго придерживаться собственно философских средств.
Этим как раз отличается подход М. Рубинштейна – человека удивительной судьбы, философа и педагога, который неизменно пытался ограничить круг исследования соразмерно познавательным средствам используемой дисциплины. Его теоретико-познавательные установки подразумевают отказ от претензии достигнуть абсолютного знания в рамках философского анализа, основанного на законах логики и рассчитанного на человеческий масштаб восприятия...
О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но этот синтез не единственный: всею сутью положения человека и его пути утверждается неразрывное единство личного и универсального смысла, когда в человеке ярко может светиться радостная и оплодотворяющая мысль, что не только мир нужен ему, но и он нужен миру, что между ними ткутся кровные узы. Так оправдывается и универсализм, и индивидуализм в их сочетании в стремлениях человека, который завоевывает космическое значение, но идет по пути отстаивания своей индивидуальности и не хочет быть просто поглощенным миром и потонуть в общей жизни. Как говорит Гегель, «великие люди в истории – это те, чьи собственные частные цели содержат субстанциальный элемент, которые суть воля мирового духа». Но этот субстанциальный элемент имеет свои бесчисленные степени, и каждая личность может внести его в свою жизнь и стать универсальной в своем значении не только как средство, но и как субъект. Идея греческого космоса-гармонии не есть естественный факт, а это творческая задача: он может и должен создаться. Здесь человек может и должен быть не только исполнителем чужих предначертаний, нагруженным долгом, но и творцом-сотрудником при наличии абсолюта, но абсолюта впереди, а не позади [1090].
Этот космос рождается из синтеза земли и неба, но это небо уже иное: это не небо трансцендентистов и фактического обстояния, а это свет из будущего, это мир еще не претворенных и не осуществленных значений, которые и ждут своей «земли», чтобы впервые стать подлинной действительностью. В этом смысле человек живет на грани двух миров: на грани мира фактов и мира идеалов, целей, ценностей, и жизнь его тем осмысленнее, чем шире и глубже ему удается их синтез, их претворение воедино в себе и собой. Это и есть подлинное его «богодействие», «боготворчество», когда в перспективе не мертвая точка или недосягаемое или разом завершенное – и покой могилы, а вечное достижение, углубление и расширение, способное дать радость достижения и в то же время возможность дальнейшего: достижение без дальнейшей перспективы, как и перспектива без достижения, внутренне противоречивы и бессмысленны.
То, что из всего этого рождается чувство и сознание космической ответственности, тем большей, чем крупнее личность, это ясно само собой; это только оборотная сторона сознания своей нужности миру, как и мира себе. Эту «тяготу» можно было бы сравнить с давлением атмосферы на нас: мы не можем уподобляться голубю, который мог бы думать, что в безвоздушном пространстве он летал бы вполне беспрепятственно и без утомления. Без этой «тяготы» жизнь не только не становится легче, но, наоборот, она становится безотрадной, беспросветной. Смысл этой «тяготы» обозначает заинтересованность мира и личности друг в друге: человек в этом случае глубоко заинтересован в том, что выйдет из мира, а миру небезразличен человек, как бы он мал ни был. Это документирование их сродства – того, что человек в этом мире в родной его сфере. И в противовес тоскующим об ином мире Ницше правдиво убеждал: «Сломайте, сломайте мне заповеди тех, кто никогда не бывает веселым». Так становится понятным, что мы ценим широту кругозора у человека, что мы волнуемся, возмущаемся или восхищаемся тем, что совершается в мире, хотя бы это нас непосредственно не касалось, что для нас при вдумчивом отношении почти нет безразличных вещей.
Положение человека как естества, способного стать культурой, способного из движимого превратиться в подлинного двигателя, приводит к тому, что он всегда незакончен, он всегда несет в себе возможности, он может стать многим из того, что он сейчас не есть. Так говорят «война родит героев», когда как будто серый обыденный человек оказывается иногда способным творить чудеса; но он их не мистически получил, а вскрыл в себе при данных условиях то, что было неведомо и для него, и для других, потому что этого еще не было. Как естество и животное он определен; как человек он всегда, как бы он мал ни был, несет в себе еще неведомые возможности, и потому его личность дорога и неприкосновенна, независимо от его фактического достижения и раскрытости.
Здесь коренится неотъемлемое право человека на воспитание и образование и смысл их: здесь через систему педагогики открывается один из выходов в практическую действительность. Здесь именно находит свое оправдание та цель, которая ставится педагогике; она заключается в следующем: воспитать и образовать цельную личность. Раскрывая содержание этого понятия, мы приходим к выводу, что педагогика должна теоретически указать и практически провести средства и пути к воспитанию и образованию человека, как телесно и духовно, всесторонне индивидуально развитой, сильной, жизнеспособной социальной, самодеятельной, культурно-творческой силы. Отсылая читателя, интересующегося подробным обоснованием этого положения и всех вытекающих из него педагогических следствий, к нашим трудам по педагогике [1091], мы здесь ограничимся только общими указаниями на педагогические следствия из нашего мировоззрения. Это, с нашей точки зрения, тем более оправдано, что хотя педагогическая колея не единственный просвет из нашей теории в практическую жизнь, но в педагогике речь идет о коренной функции, без которой отпадает и все остальное: не будет человека и его личности, не будет этого корня всякой культуры, будет одно непретворенное естество; тогда нет ни смысла, ни права говорить о каких бы то ни было других сторонах.
В самом деле. Должен быть человек как существо не только животное, большее, чем животное. Это ясный вывод из всех наших размышлений. Оставаясь на почве голого естества – что для нас возможно только искусственно, – мы уже не вправе претендовать для человека на какие бы то ни было преимущества перед другими животными. В сохранении homo sapiens не больше смысла и оправдания, чем в сохранении любого зверя – у него не больше права на насыщение и жизнь, и весь вопрос должен свестись просто к голой силе и борьбе за существование, обычной для всех разновидностей животного царства. В этой же плоскости оказались бы и педагогические интересы: они целесообразны относительно, применительно к стремлению к самосохранению данной животной особи, но и то не все и не во всем. Вопрос о культуре должен отпасть тогда совершенно; в медведе и волке тогда не меньше смысла и оправдания, чем в человеке, с тою только разницей, что человек только куда более опасный хищник и соперник, чем его животные собратья, потому что только он homo faber, т. е. владеет орудиями и способен создавать новые.
Но уже этим сказано, что он не только животное: как мы стремились показать, в самом своем естественном животном стремлении быть и жить он выходит на путь сверхъестественного, культурного претворения действительности и находит подлинное царство человека в высшем смысле этого слова. В логическом и императивном следствии «должен быть человек», как скрытая предпосылка, живет мысль, что и может быть человек; это значит, что в нем должны быть вскрыты во всю глубь и ширь борец (естество) и творец (культура), хотя нужно подчеркнуть, что наше раздельное указание этих сторон в нем не должно быть понято как утверждение их действительной разобщенности; наоборот, мы подчеркиваем, что это не слагаемые, а элементы, т. е. что они получены путем искусственного выделения ради теоретических интересов. В аспекте «философии человека», как и в свете подлинно жизненного взгляда, человек как объект воспитания должен быть взят весь, во всех его сторонах – так, как берется полная человеческая личность. Узость старой точки зрения заключалась в том, что она мыслила совершенство и совершенствование индивида этически, меж тем как оно должно быть расширено до своих живых пределов – до понимания и внимания ко всей личности развивающегося человека. Воспитание и образование и должно углубленно и всесторонне раскрыть все возможности в этих двух направлениях в человеке. В главе о личности мы отметили четыре точки зрения, с которых может быть охвачена вся полнота и глубь выявлений человека: это взгляд на него как на: 1) дитя природы, естества; 2) индивидуальность; 3) члена социальных образований; 4) сочлена культуры. Здесь нам остается только добавить некоторые пояснения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: