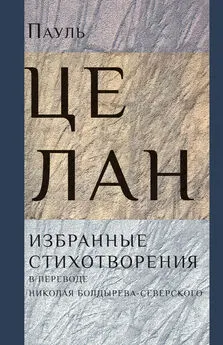Пауль Наторп - Избранные работы
- Название:Избранные работы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-91129-043-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пауль Наторп - Избранные работы краткое содержание
Настоящее издание составлено из дореволюционных переводов Пауля Наторпа. В него тем не менее не вошли (в силу ограниченного объема издания) ряд других существующих русских переводов. Важнейшим из них является уже упоминавшаяся «Социальная педагогика». На русский язык была переведена также книга о Песталоцци и работа по логическому обоснованию математики и математического естествознания. Лучшим введением в круг идей марбургских неокантианцев на русском языке до сих пор остается, на наш взгляд, соответствующий раздел в цитировавшейся книге грузинского философа Константина Спиридоновича Бакрадзе. Из немецких источников можно рекомендовать обобщающую работу о неокантианстве Ганса Людвига Олига, а среди значительных исторических исследований – книгу Клауса Христина Кёнке о возникновении неокантианства.
Избранные работы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Останемся верными этому образу мыслей; тогда мы докажем дух свободы личности в смысле наших великих людей, в духе наиболее проникнутых немецким духом немцев, – для которых, по Фихте,
быть немцем значит быть свободным —
и в духе самых человечных людей.
Перевод М. М. Рубинштейна
Философия как основа педагогики
Предисловие
П.Наторп, автор настоящей работы, знаком публике, интересующейся философией, как один из самых талантливых выразителей того «истинного идеализма» («методического») (ср. ниже: с. 18), каким представляется кантовский идеализм некоторым современным его последователям. Составив себе солидную философскую репутацию главным образом исследованием учения о идеях Платона, исследованием глубоким и остроумным, хотя и оригинальным по стремлению сделать из Платона «истинного идеалиста», Наторп и в своей педагогической литературной деятельности сделал Платона своим любимым героем. Платон и Песталоцци как педагоги для него – два кульминационных пункта в развитии педагогической мысли: с одной стороны, как наиболее глубокие представители социальной педагогики, с другой – как мыслители, оценившие подлинную, органическую связь философии в ее целом и педагогики как науки. Развив в своей главной работе по педагогике, в «Sozialpädagogik», свою систему в форме догматической, Наторп любит возвращаться к ее теме и в своих статьях и лекциях исторического содержания. Платон и Песталоцци, понятно, здесь занимают первенствующее место. Однако, естественно, к какому бы вопросу ни обратился Наторп, основные принципы его философских убеждений не могут не обнаружиться. В значительной степени это имеет место и в предлагаемой его работе. И непредубежденному читателю бросятся в глаза некоторые предвзятые и логически неоправданные точки зрения автора, например искусственное объяснение единства философии как целого; утверждение, что этика и эстетика составляют «продолжение» логики («логика в расширенном смысле»); умолчание
о собственно философии, т. е. метафизике, ее роли и отношении к нормативным наукам; невыясненность отношения эстетики и психологии творческого воображения и т. п. Поэтому отнюдь не своеобразное миропонимание Наторпа является причиной появления этой книги на русском языке. Можно разделять и не разделять философские убеждения автора, но к голосу писателя с его именем следует прислушиваться. И это тем более, когда он подходит к вопросам, не так интимно связанным с его принципами, когда в обсуждении, так сказать, нейтральных для его философии вопросов полная солидарность с его философскими предпосылками не может быть необходимым условием для принятия или непринятия развиваемых здесь взглядов. Я не хочу этим сказать, что вопросы, разбираемые Наторпом в этом сочинении, не связаны у него органически с его философскими убеждениями. Напротив даже. Но они приемлемы и доказательны и без его философии. Тем более, что и сам Наторп заинтересован здесь не столько в распространении своих взглядов, сколько в защите забываемого иногда общего требования, что «теоретическое обоснование педагогики есть дело философии» (см. с. 86). Вот причина появления этой книжки.
Но повод, ближе определивший ее выбор, указывает и ту сторону ее, на которую мне хотелось бы обратить внимание читателя.
Дело идет об одном частном вопросе педагогики, но тесно связанном с принципами ее. Со времени Гербарта судьбы педагогики прочно связываются с судьбами психологии. Направления педагогической мысли зависят от направлений психологии. Каждый шаг в развитии психологии рассматривается как вклад в педагогику. И несмотря на внутреннее противоречие задач психологии как науки – найти законы душевной жизни, т. е. установить общие принципы ее, и педагогики как практической дисциплины – иметь дело с данным, индивидуальным, – несмотря на это, возникает самостоятельная дисциплина: педагогическая психология. Принимая во внимание различие задач педагогики и психологии, в таком названии уже заключается con-tradictio in adjecto. Тем не менее термин получил как бы право гражданства, и можно отрицать такую науку, но такой предмет изучения и преподавания налицо. Казалось бы, дело можно уладить, если найти для такого предмета специальный объект в психологии ребенка. Но, не говоря уже о том, что и психология ребенка как наука должна стремиться к общему, а не индивидуальному, иначе, не будучи «педагогической», она не может быть специальным объектом науки, так как составляет только часть более широкой, генетической психологии или, точнее, часть общей психологии, поскольку она пользуется генетическим и сравнительным методом изучения. Таким образом, противоречие не устраняется. Оно продолжает быть не только на словах, но и в действительности. Стоит обратить внимание на один любопытный факт: университетское преподавание почти не знает такой науки, как педагогическая психология. Подавляющее количество учебников и сочинений по педагогической психологии написано учителями, директорами семинарий, даже врачами – вообще людьми, заинтересованными больше практикой воспитания, чем чисто теоретическим изучением вопроса. Справедливо считают таких «специалистов» в области науки дилетантами. Почему же действительные специалисты в области науки – ученые психологи по большей части – обходят такую, кажется, важную область? Можно с уверенностью ответить на этот вопрос так: главное отличие ученого не в количестве знаний и даже не в качестве их, а в методе; метод, в свою очередь, дается хорошей школой и для дилетанта или автодидакта вещь почти недоступная. Если это верно, то понятна нелюбовь специалистов в психологии к педагогической психологии с ее скрытыми методологическими противоречиями. Это одна сторона дела. Другая – ее необходимое следствие. Отсутствие строгих методов, кажущаяся ненужность предварительной школы побуждают и всех заинтересованных в деле родителей, воспитателей, школьных администраторов, врачей и т. д. судить о вопросах педагогики, как если бы они были в самом деле здесь специалистами. Этот интерес к делу и создает педагогической психологии ее общественную репутацию и популярность. Наконец, время от времени возбуждается усиленный интерес к вопросам воспитания уже в силу чисто социальных причин. Разочарование в политических и социальных реформах, долженствующих создать благоденствие человечества, заставляет вспомнить и о воспитании как средстве подготовления лучшего будущего. Такие эпохи особенно благоприятствуют появлению «учителей и пророков». Ведь где желание, там и доверие; публика верит, потому что желает…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: