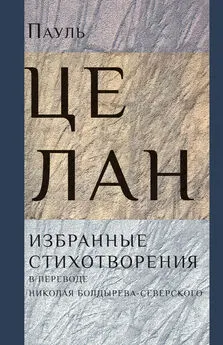Пауль Наторп - Избранные работы
- Название:Избранные работы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-91129-043-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пауль Наторп - Избранные работы краткое содержание
Настоящее издание составлено из дореволюционных переводов Пауля Наторпа. В него тем не менее не вошли (в силу ограниченного объема издания) ряд других существующих русских переводов. Важнейшим из них является уже упоминавшаяся «Социальная педагогика». На русский язык была переведена также книга о Песталоцци и работа по логическому обоснованию математики и математического естествознания. Лучшим введением в круг идей марбургских неокантианцев на русском языке до сих пор остается, на наш взгляд, соответствующий раздел в цитировавшейся книге грузинского философа Константина Спиридоновича Бакрадзе. Из немецких источников можно рекомендовать обобщающую работу о неокантианстве Ганса Людвига Олига, а среди значительных исторических исследований – книгу Клауса Христина Кёнке о возникновении неокантианства.
Избранные работы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Г. Шпет.
Москва, 1910
Введение
Первый вопрос, на который должна ответить педагогика как наука, гласит: какова вообще ее научная основа? В состоянии ли она самостоятельно обосновать свои принципы или должна заимствовать их из других наук? Если по общему признанию имеет место последнее, то на какие другие науки она должна опираться? На одну или несколько? Если на несколько, то что даст каждая из них для ее обоснования? Для каких различных сторон своей задачи ей приходится искать научные принципы в различных науках, причастных к ее обоснованию?
Эти вопросы нуждаются в более точных и более обоснованных ответах, чем те, которые они находили себе до сих пор.
Правда, всегда существовала, существует и теперь часто, склонность в деле воспитания вообще мало доверять теоретическим соображениям и во всем полагаться на практику. И в этом, с одной стороны, нет ничего удивительного. Теория, по-видимому, никогда не закончит своей работы; между тем практика выдвигает свои неоспоримые требования; с ними нужно справиться, не задаваясь вопросом о том, приведут теоретические рассуждения к цели или нет. Из такой нужды потом легко делают добродетель; думают, что можно научиться из самого опыта, что для него теория не нужна или мало нужна, так как и без нее справились с практикой и кое-чего все-таки добились.
Так думают про себя, вероятно, многие практики. Для некоторых частных вопросов техники преподавания и воспитания такой образ мыслей имеет свое законное основание. Но воспитание во всем его объеме слишком большое и ответственное дело, чтобы можно было так к нему относиться. Прогресс культуры, прежде всего национальной, а через нее, следовательно, мировой, зависит от того, в каком направлении и какими путями мы поведем воспитание подрастающего поколения. Приступать к такому делу без достаточно глубокого теоретического рассмотрения есть непростительное легкомыслие.
Ведь мы все проникнуты идеей развития. Ведь мы же не думаем, что человеческая культура заканчивается на какой-нибудь определенной ступени и неспособна к дальнейшему прогрессу. Это было бы смертью человечества, но человечество еще не умирает. Если, следовательно, человеческая культура должна развиваться путем воспитания и обучения от поколения к поколению, если она есть нечто изменяющееся и растущее, никогда не заканчивающееся, то как можно думать, будто простое обращение к практике в деле воспитания в том виде, как оно существует в данный момент и в данном месте, само уже поставит нас на правильный путь и мы, как во сне, понесемся к истинной цели? Предоставить себя данной, установившейся практике, не исследуя ее и не высказывая собственного обоснованного суждения, – противно уже всякому свободному чувству, противно сознанию собственного самостоятельного убеждения. А надо бы если не во всей своей деятельности, – что, конечно, слишком большое требование, – то по крайней мере в своем суждении быть свободным по отношению к действующей практике. Только тогда можно, со своей стороны, способствовать улучшению того, в чем кое-что уже достигнуто, а там, где лучшего не знаешь, можно делать то, что делаешь, от всей души, потому что это делается на основании собственного убеждения. Только тогда это имеет цену и может удовлетворить нас самих. Быть может, думают, что теория придет сама собой, вместе с практической работой. Но она не придет по крайней мере без предварительного выяснения основ всей этой деятельности с ее отдаленными целями; она не придет, если с самого начала неизвестно, куда вообще направить путь и как.
Вопрос теории, словом, есть вопрос духовной свободы. Слова Мефистофеля к верующему ученику: «Теория, мой друг, сера везде…» – потому звучат так глубоко по-мефистофельски, что в дерзновенном пренебрежении к той серьезной ответственности, на которую указывает теория, зарождается иллюзия золотой свободы и в то же время подрывается корень истинной свободы, свободы самостоятельно достигнутого убеждения. Настоящее мнение этого опытного знатока людей откровенно высказывается, когда он остается наедине с самим собой, в торжествующем:
«Лишь презирай ты разум, знанья луч,
Чем человек одним могуч…
Тогда ты безусловно мой».
Лукавство этих слов заключается в противопоставлении теории и жизни: как будто теория не есть жизнь, как будто достойная жизни жизнь может быть без размышления; как будто можно жить, только не размышляя, или размышлять, только отрешившись от жизни. Человек, действительно знавший кое-что в жизни и не считавший себя затерянным в тумане теории, – Жан Жак Руссо – был того мнения, что жизнь для человека есть сознание. И если бы воспитание было, как оно должно быть, самой живой жизнью, то именно поэтому оно потребовало бы наивысшего сознания. Но это недостижимо, если безудержно отдаться течению жизни и деятельности. Нужно когда-нибудь остановиться и сосредоточенно предаться размышлению и исследованию. Конечно, если ограничиться одними размышлениями, то не хватит духа вновь проверить в жизни и на деле результат своего размышления, тогда, конечно, погибли бы лучшие плоды размышления. Поэтому мы, конечно, вправе требовать постоянного обращения от теории к практике жизни. Но из этого ни в коем случае не следует, что можно вообще порицать сознательное исследование и кричать, что оно враждебно жизни, что оно связывает деятельную энергию. Нельзя спорить и с тем, что более глубокое размышление требует больше времени и досуга и что прежде всего должен сделать глубокий глоток из ключа сознания тот, кто хочет потом ринуться в жизнь со всей энергией и радостью своей собственной сознательной, убежденной деятельности в мощную жизнь духовного развития, сотрудничества в подготовке нового дня человечества, т. е. воспитания в широком и великом смысле слова, к которому причастен, конечно, не только цеховой воспитатель.
Вот чему должна способствовать теоретическая разработка педагогики, вот в чем нельзя без нее обойтись. Она действительно хочет служить практике и, следовательно, жизни; но она хочет служить им, руководя ими, не извне, как чуждая сила, но живя в каждом, кто призван сотрудничать в общем деле. Воспитание есть именно введение теоретически познанного в дело человеческой жизни. Воспитание, «педагогика», есть возведение ребенка, именно ребенка, на степень человека – несовершеннолетнего к совершеннолетию. Но совершеннолетним называют человека только зрелого сознания, следовательно, в конце концов сознания научного. Следовательно, и к совершеннолетию может в конце концов вести только наука.
Высшее же руководство делом воспитания принадлежит только основной науке – философии. Доказать это положение и есть цель настоящего исследования. Единство плана, которым должна быть внутренно, центрально связана вся работа воспитания, т. е. образование из человека человека, возможно только благодаря центральному единству познания, которое простирается на всю область того, что можно назвать человеческим духом, как со стороны объективного содержания, так и со стороны того способа, каким оно нами субъективно переживается. Но это центральное единство познания есть задача философии, тогда как идущее к периферии расширение ее есть дело всех наук вместе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: