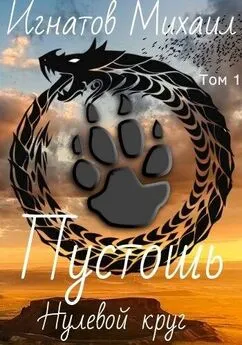Михаил Маяцкий - Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет
- Название:Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-0908-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Маяцкий - Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет краткое содержание
Интеллектуальное сообщество, сложившееся вокруг немецкого поэта Штефана Георге (1868–1933), сыграло весьма важную роль в истории идей рубежа веков и первой трети XX столетия. Воздействие «Круга Георге» простирается далеко за пределы собственно поэтики или литературы и затрагивает историю, педагогику, философию, экономику. Своебразное георгеанское толкование политики влилось в жизнестроительный проект целого поколения накануне нацистской катастрофы. Одной из ключевых моделей Круга была платоновская Академия, а сам Георге трактовался как «Платон сегодня». Платону георгеанцы посвятили целый ряд книг, статей, переводов, призванных конкурировать с университетским платоноведением. Как оно реагировало на эту странную столь неакадемическую академию? Монография М. Маяцкого, опирающаяся на опубликованные и архивные материалы, посвящена этому аспекту деятельности Круга Георге и анализу его влияния на науку о Платоне.
Автор книги – М.А. Маяцкий, PhD, профессор отделения культурологии факультета философии НИУ ВШЭ.
Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Диссертацию Зингер опубликовал в 1920 году в виде книги, озаглавленной «Деньги как знак» и оставшейся почти не замеченной современниками-экономистами. В контексте отношения к античности интересно отметить, что два года спустя он обращается к проекту мировой валюты, для которой предлагает название «Lytron», от греческого слова lutron 'выкуп, возмещение' и предлагает соответственно термин Lytrogenese вместо Geldschöpfung [239].
Общая патриотическая [240]и этатистская перспектива очевидна в его статье 1933 года, в которой он дает положительную оценку итальянского фашизма [241]. Видимо, следует считать доказанным, что, несмотря на последующие географические и идеологические перипетии, Зингер в течение долгого времени позитивно относился к национал-социализму, чей антисемитизм, кажется, застал его врасплох. Вполне обосновано то предположение, что «если бы не еврейское происхождение, Зингер, вероятно, примкнул бы к национал-социализму Не только политические предпосылки, но и риторика его работ от конца 20-х годов и далее обнаруживают заметную близость к нацистской идеологии» [242].
2. Путь к Платону, путь к Георге
В 1920 году (то есть в том же году, когда вышла его диссертация о деньгах как знаке) Зингер при поддержке Гундольфа публикует свой 35-страничный доклад «Платон и греческость». В первых же его строках он объявляет о будущем «общем изложении» (Gesamt-Darstellung), предвестником которого и будет очерченный в докладе образ Платона. В отличие от большинства предшествовавших исследователей автор видит в Платоне не рождением и смертью ограниченного исторического персонажа, выходящего за рамки своей биологической жизни только в виде славы, но «вечно живую субстанцию, очаг и пламя божественной мощи, чье влияние и воздействие во времени и пространстве есть символ ее сущности». Отсюда для автора следует, что событийный ход и содержание жизни Платона составляют одно целое с его «гештальтом и миссией». Следовательно, идеальное, помысленное следует понимать не как абстрактные значимости, но как «одухотворение плотских субстанций» [243]. Как и Андреэ, Зингер видит в Платоне вызов духу Нового времени и противоядие от его всеразлагающего воздействия. Сама (не)способность понимать Платона выступает критерием (не)состоятельности эпохи: «XIX век, конечно, никогда не был готов принять слово Мастера [то есть Платона!] всерьез и с неизбежностью, как его и следует понимать, если мы не хотим, чтобы оно утратило малейший плодотворный смысл. Еще меньше была готова эпоха обратиться к толкованию его произведения» (7–8). Исключительный, из ряда (даже самых великих) вон выходящий характер Платона чувствуется и самыми удаленными от Греции поколениями, но историки европейской мысли продолжают без зазрения совести рассматривать его в череде разнообразных прочих систем, а в его диалектике видят звено рационализирующего движения от первых восточных мифологических спекуляций к современной науке. Пришло время мерять не Платона современными понятиями, а весь способ мысли Нового времени нормами платоновской мысли. Первый шаг здесь сделал Фридеман, опираясь на Гёте и Винкельмана (13). В Платоне нужно узнать и признать бойца в той же борьбе, что ведем сегодня мы: против софистики как распада, расщепления единого человеческого образа (16). Новое время реабилитировало софистику, восхваляя достигнутую ею свободу духа. Для Платона же это освобождение было отрывом от питательной почвы, началом обездушения и обесценивания, концом эпохи (17).
В 1924 году Зингер получает профессорское звание и место экстраординариуса по политэкономии в Гамбурге. Через год он отклоняет пост ординариуса в Высшей коммерческой школе в Кенигсберге и остается в Гамбурге. За свою экономическую журналистику получает половину (sic) премии Вальтера Ратенау (лично которого, впрочем, не жалует, и которому посвящает весьма едкую статью). Параллельно с журналистикой и преподаванием Зингер работает над своей книгой «Платон, основатель». Работа над ней завершена в марте 1926 года [244], книга выходит в 1927-м. Покинув редакцию, он подает свою кандидатуру на пост экстраординариуса по журналистике (Zeitungwissenschaften) в Берлинский университет Фридриха-Вильгельма (ныне Гумбо ль дтский). Ему предпочитают, однако, другого кандидата. Сохранившийся – ив целом положительный – отзыв члена комиссии, политэконома и социолога Фридриха фон Готтль-Оттилиенфельда, примечателен тем, что подразделяет весьма разнообразные как тематически, так и жанрово труды кандидата на три группы: научные, журналистские и публикации, возникшие в орбите Круга Георге [seine Publikationen im Umfeld des George-Kreises]. Характерно само это упоминание Круга Георге в официальном университетском документе. Рецензент воздерживается от оценки трудов 1920 и 1927 годов, посвященных Платону, но приводит мнение коллеги, некоего берлинского приват-доцента о книге «Платон, основатель»: «Это книга вовсе не о Платоне, зато в ней живет сам Платон!» Рецензент указывает в заключение, что особая разносторонность дарований кандидата нисколько не умаляет ни одного из них. К тому же у них есть скрепляющая связь, и какая – Платон! Элегантная дистанция рецензента не скрывает признания, если не восхищения:
Если, кроме того, он [то есть кандидат] честно борется за то, чтобы весь свой образ мысли и все свое мировоззрение основать на Платоне, то вовсе не важно, намного ли его попытки в этом отношении превосходят любительский уровень. Даже просто любительствовать в этом направлении не убавляет достоинства даже и у строгого ученого. […] Точно так же, как журналистской поденщине Зингера особенную и, на наш взгляд, благотворную ноту придает то, что он остается в ней верен научной установке, так и его научные труды выигрывают от того, что он всякий раз стремится сплести теоретическую мысль с основными мотивами платоновской духовности [245].
Обратимся теперь к самой книге. В ее названии Зингер применил к Платону слово 'основатель', Gründer (перевод с греч. oikistês), – основатель города, полиса, которое употребляется в диалогах («Полития» (379а1, 519с)). У нас нет точных сведений об обстоятельствах рождения книги. Эллинофил (но не владевший греческим на уровне Залина), платонофил еще до сближения с Кругом, получил ли Зингер «заказ» на книгу, замысел которой, как мы видели, он упоминает уже в 1920 году? Точными сведениями об этом мы не обладаем. Если получил, то в какой форме и от кого именно? От Ееорге? Вряд ли: известно, что Зингер производил на него несколько комический эффект. От Еундольфа? Это вероятнее, но тогда речь могла идти не о «заказе», а лишь о побуждении или поддержке. Знал ли Зингер о прохладной реакции Георге на книгу Залина и хотел ли точнее, чем тот, выполнить реальное или воображаемое пожелание Мастера? Так или иначе, 16 марта 1926 года он посылает Мастеру рукопись,
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


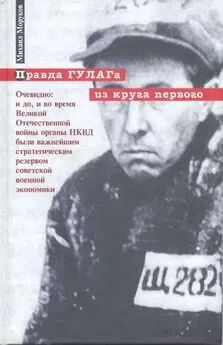

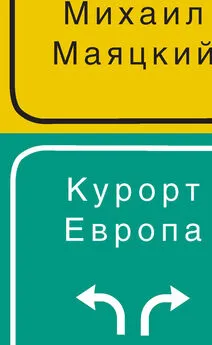

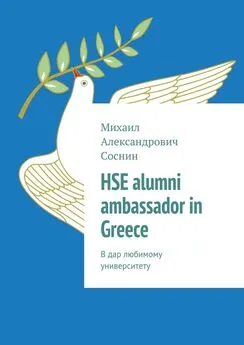
![Михаил Игнатов - Пустошь. Нулевой круг [litres]](/books/1066470/mihail-ignatov-pustosh-nulevoj-krug-litres.webp)