Михаил Маяцкий - Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет
- Название:Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-0908-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Маяцкий - Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет краткое содержание
Интеллектуальное сообщество, сложившееся вокруг немецкого поэта Штефана Георге (1868–1933), сыграло весьма важную роль в истории идей рубежа веков и первой трети XX столетия. Воздействие «Круга Георге» простирается далеко за пределы собственно поэтики или литературы и затрагивает историю, педагогику, философию, экономику. Своебразное георгеанское толкование политики влилось в жизнестроительный проект целого поколения накануне нацистской катастрофы. Одной из ключевых моделей Круга была платоновская Академия, а сам Георге трактовался как «Платон сегодня». Платону георгеанцы посвятили целый ряд книг, статей, переводов, призванных конкурировать с университетским платоноведением. Как оно реагировало на эту странную столь неакадемическую академию? Монография М. Маяцкого, опирающаяся на опубликованные и архивные материалы, посвящена этому аспекту деятельности Круга Георге и анализу его влияния на науку о Платоне.
Автор книги – М.А. Маяцкий, PhD, профессор отделения культурологии факультета философии НИУ ВШЭ.
Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
священный город сытый город очищенный город
мера кощунство спасение
воины стражники философы
Конечно, речь идет не о реальных условиях возникновения государства в реальном времени (кого интересуют взгляды Платона на эти материи, должен обратиться к «Законам»), и триаду нельзя рассматривать как исторические фазы. Эти кайротические (а не хронологические) типы коренятся один в другом, и переход от одного к другому вызван не какой-то внешней нуждой, а необходимостью самого государствообразующего духа, его самопонимания и самоочищения (79).
Особую важность для георгеанца Зингера приобретает вопрос о судьбе искусства в полисе. Как объяснить изгнание из него поэтов и художников? Не начинается ли уже с Платона христианская переоценка античных ценностей, возмущение чистого духа против плотского и плотью питаемого искусства, моральное восстание рабов? Новому времени верхом и воплощением греческого духа представляется гомеровский мир, поэтому в платоновском учении об искусстве оно находило не восхождение, а обеднение, реакцию моралиста на свободу. По этой причине платоновская критика искусства не воспринимается нами – на исходе долгой Wirkungsgeschichte – как сама собой разумеющаяся, а остается причудливой философемой великого мыслителя. По Зингеру, Платон изгоняет искусство и Гомера во имя возвращения к догомеровской, еще единой с культом, пластике (80–84). Когда распадается это единство, возникают объяснительный миф, рационализация ритуала, сказка, безжизненная статуя и прочее искусство, порожденное индивидуальным капризом художника, а затем этика, логика, политика… Платоновскую философию, его учение об идеях, его полисооснование можно понять только из воли вернуться из этого состояния мира к тому, в котором были рождены и действовали греческие боги. Его теория идей – это не просто некая система ценностей, но путь, ведущий из овеществленного и обезверенного мира к всечеловеческой действительности. Его политика – это попытка дать божественному безопасное место среди человеческого сообщества, уберечь его от враждебных сил Я и материи. Платон не отвергает поэзию, которую называет «божественной». Но нужда в спасении Единого такова, что он запрещает себе чистую мечту и требует снова чуда. Произведение искусства помогает воплотить бога или не имеет места в его империи. Иными словами, искусство не только не изгоняется, но наделяется прерогативами, неизвестными ни предшественникам, ни потомкам вплоть до современных, начала XX века, эстетов (85–87).
Так отчетливо выраженная у Платона идея единства музических и политических законов (настолько, что невозможно менять одни, не меняя и другие) не свойственна только ему и предстает общегреческим достоянием (89). О политических взглядах Платона было сказано немало глупостей. Например, в запрете на частную собственность видели начало коммунизма, тогда как на деле речь шла о критерии, видит ли данное конкретное лицо в своей руководящей роли в городе повод для как можно полного осуществления своего гедонистико-эгоистического счастья или же, наоборот, готов к великому отречению (90–91). В нем следует видеть символ самопожертвования частей по отношению к целому (тогда как части патологически склонны, напротив, к бунту против целого). Добродетель справедливости (четвертую в ряду с мудростью, мужеством и благоразумием) нужно толковать прежде всего как осознание человеком своего места и своего дела и непосягание на иное и большее (95–98). Здесь следует принять точку зрения царствующего и обозревать целое с его перспективы (100). Не то в Новое время, когда изменения государства стали ждать не от правителей, а от подданных (129).
От читателей Нового времени, занятого исключительно третьим сословием, может ускользнуть, что в «Политий» под видом общезначимого и всех касающегося послания закодирована теория, касающаяся только кучки избранных [nur einer kleinen Schar Erwählter] (105), на которых лежит миссия воспитания, образования: всё, что говорится в «Политий» об идеях, говорится ради правильного формирования человека и государства, а не ради истины (111). Диалектика здесь – не доступная каждому наука о понятиях, а способ общения этих избранных: это «учение о том, как отдавать себе и друзьям отчет в правомочности каждого шага созерцающей мысли» (115). Этим определяется демоническая роль философа, связующего этот и тот мир (108); другим посредником и незыблемой священной сердцевиной Новой Империи остаются Дельфы (93). До Платона философ созерцал, понимал, объяснял и удивлялся. Платоновский философ всем нутром устремлен к государству: он правит, ведет, дает закон, основывает, удерживает в бытии (107). Человек, государство и вселенная – это для него концентрические сферы (108).
Зингер настолько увлечен идеей гармонии и всеобщей связи руководства и подчинения, что объявляет платоновский принцип познания подобного подобным – универсально греческим (109–110), то есть попросту игнорирует Аристотеля. Однако не всё греческое совпадает с платоновским или совместимо с ним. Как раз то, что специфично для греков – тяга к агону, страсть с созерцанию, радость аргументации, конструирования, доказательства – всё это Платон стремится обуздать. Тяге к агону он указывает новую великую цель, Высшее Благо, а награду в борьбе полагает в самой Благой Жизни. Ограничение простого взирания – постоянная забота законодателя. Только когда исполнена служба государству и воспитание себе подобных, можно предаться теоретической жизни (123–124). После греков и римлян только немцам дано преодолеть в себе узкоспецифично национальное [250], найти новое единство, стать основателями чего-то большего, чем просто их национальное государство (125–126).
После того как новое основано, надо его сохранить. Но позицию Платона так же глупо назвать консервативной, как и коммунистической. Это Новое время не может жить, не становясь постоянно другим, не меняясь, не прогрессируя, и ему странно обнаружить в «Политий» совсем иное воззрение. Однако здесь нет и покоя как антипода движения. К покою стремятся египтяне или индусы; «Полития» восходит от прекрасного к более прекрасному (127). «Полития» есть миф, а миф говорит не о некогда-бывшем, но о вечно-сущем (128). Уже даже Аристотель не понимал, что это не одно из возможных государств, а норма всех действительных (137). Это нормативно-совершенное государство основывается в мысли (вот, оказывается, в каком смысле нужно толковать и название книги Зингера) как прообраз всех конституций государственных и индивидуально-душевных. Вопрос о том, осуществилась ли уже или осуществится ли когда-либо такая конституция в действительности, для философа не имеет значения (146). Сам Платон ясно осознавал некайротичность момента, в котором ему выпало жить (158): «Полития» завершается не какими-то афоризмами житейской мудрости, а уплотнением духа, сужением круга, чисткой сообщества, ожесточением воли к формированию (148). Ибо формирование (гештальтирование, Gestaltung) человека есть наивысшая прерогатива правителей, и примитивные народы с задворок ойкумены, возлагающие на правителей ответственность за ветер, урожай, победу или военное поражение, понимают больше, чем трусливые прогрессивные, которые видят в правителях легальных исполнителей профессиональных действий или носителей личных амбиций (155–156). В целом буржуазно-пролетарское просвещение неспособно понять Платона, так как понять дух может только конгениальный дух (158).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
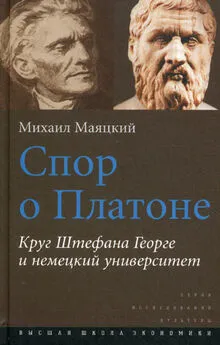




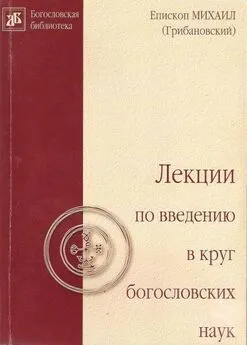

![Михаил Игнатов - Пустошь. Нулевой круг [litres]](/books/1066470/mihail-ignatov-pustosh-nulevoj-krug-litres.webp)


