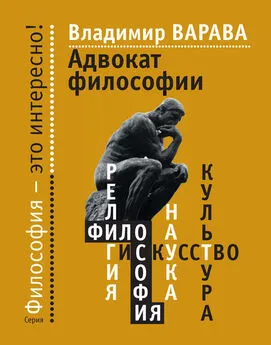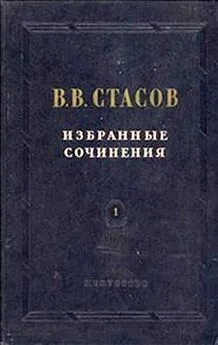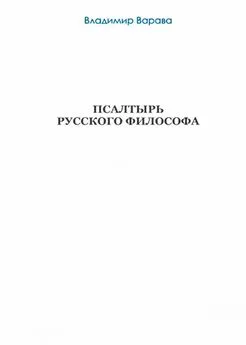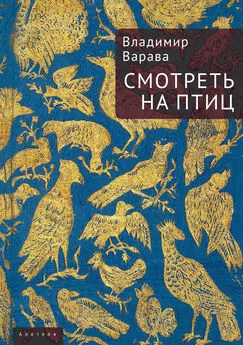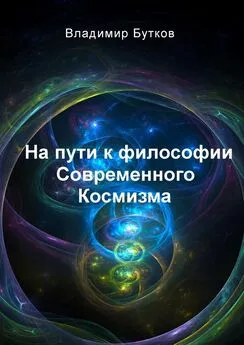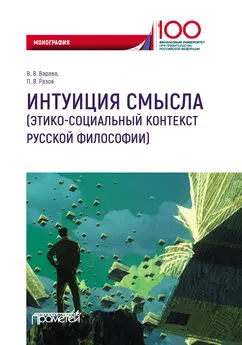Владимир Варава - Адвокат философии
- Название:Адвокат философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Этерна»2c00a7dd-a678-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-480-00336-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Варава - Адвокат философии краткое содержание
Особенность этой книги состоит в том, что в ней нет специализированной терминологии и прямых ссылок, цитат и упоминаний различных авторов. В ходе ответов на поставленные вопросы обсуждаются такие проблемы, как сущность философии; отличие философии от науки, религии, искусства; социальная миссия философии в обществе и культуре. Рассматриваются причины современного «упадка философии», которые связываются с тем, что философия подменяется иными формами духовной культуры. Ставится задача раскрыть значимость философии средствами самого языка и через обращение к жизненным ситуациям человека.
Книга будет интересна для всех, кто интересуется философской проблематикой, не исключая, однако и тех, кто подвизался на профессиональном философском поприще.
Адвокат философии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
204. В чем трагедия и преимущество русской философии?
Мы обречены на язык; не только на язык как универсальный антропологический феномен, но и на язык как факт локальной национальной культуры. Есть области культуры, в которых гнет языка наиболее силен и болезнен. Таковой является философия. Здесь власть языка сказывается наиболее радикальным образом, и часто философские темы оказываются заложниками языковых структур. Язык прокладывает тропы, по которым идет мышление, а должно быть наоборот. Поскольку мышление протекает не в аморфном пространстве невербальной стихии, а в тропах и тропинках языка, то универсум философского логоса оказывается раскроенным по лингвистическим меркам национального языка. И действительно, нельзя пренебречь языком и его властью над нашими сознанием, жизнью и культурой. Очень часто мыслитель достигает подлинного успеха лишь в случае совпадения своей мыслительной интенции с адекватной формой языкового выражения. В проекции на экран мировой философии это выглядит таким образом: западные философы, размышляющие над метафизическими безднами человеческого бытия, над катастрофизмом его нравственного мира, являются или одинокими вспышками, стоящими в стороне от общего потока, или ординарными интерпретаторами русских гениев, проявившихся в этой области бесспорно и однозначно. В свою очередь, русские философы, занимаясь проблематикой, свойственной исключительно западноевропейскому, то есть научно-рациональному, философскому дискурсу, также обречены на неудачу. Они всегда будут лишь комментаторами, переводчиками (что само по себе не плохо, вполне достойно и нужно для развития общей философской культуры). Но русский философ обречен, если он задумает написать на русском языке что-то оригинальное, самостоятельное в области научной философии. И не потому, что он плохой мыслитель, а потому, что язык не позволит. В то же время философские писатели в России, идущие в русле традиций нравственной метафизики, всегда будут обречены на успех (естественно, при наличии одаренности). Можно возразить, что мы преувеличиваем значение языка, особенно для такой свободной области творчества, как философия. Однако пренебрегать силой языкового давления не следует. Язык помогает помогающим ему и оказывает фатальное сопротивление тому, кто выступает вопреки его таинственной нормативности. Отмеченное отнюдь не нарушает свободы творческого самовыражения, нужно только поймать ту «языковую волну», которая была бы конгениальна философской интенции национальной традиции: в России – нравственное, на Западе – научное. Иначе откуда столько непризнанных гениев (несостоявшихся в философии людей) как в России, так и на Западе – людей, не угадавших язык своей философской традиции. Для философии поэтому нужна культура чувствования стихии национального языка, языковой национальной стихии. Здесь не закрепощение, а как раз освобождение. Взяв в спутники язык, можно достичь больших свершений и прорывов в философии. В этом смысле проблема русской философии, возможно, является проблемой неправильного выбора языка . Нет никакого специфического философского языка; есть просто язык, национальный язык, в духовной стихии которого возможно свершать философское творчество. И чем национальнее оно будет, тем оно будет свободнее, а значит, оригинальнее.
205. Что значит, что не осмыслена проблема бытия?
Вопрос о бытии должен был бы стать первым вопросом человеческого существования, поскольку здесь сконцентрировано самое невероятное – невозможная возможность нашего существования! Однако он таковым не стал и сохраняет свое существование, лишь будучи вдвинутым в философию. Вопрос о бытии является поэтому философским вопросом: именно в таком качестве он и сохраняет свое существование. И здесь важно видеть, насколько философия оказывает (или не оказывает) влияние на остальную жизнь. Думают, что наивно жизнь ставить в зависимость от философии. Но в этом как раз состоит роковая неудача людей, решивших обойтись без философии. Нерешенность и непоставленность вопроса о бытии наносит серьезный урон основам человеческого существования, делая его приблизительным, относительным и недостоверным. Именно так устроены люди, с этим ничего поделать нельзя. Если хотя бы один человек уже умер неосмысленным, остальные просто не имеют никакого морального права на лучшую участь.
206. Принадлежит ли мне что-нибудь сущностно и принадлежу ли я сам себе?
Принадлежность еще не являлась философской категорией и не выступала в качестве предмета философской рефлексии. Она всегда растворяется в других терминах и понятиях. Принадлежность – это собственность и право владения этой собственностью. Иначе: экономическая, юридическая и социальная величина. Но если ее применить к самой жизни, то может ли вопрос о принадлежности быть эксплицирован экзистенциально? Здесь всегда напрашивается (в силу смертности и конечности жизни) отрицательный ответ о ее принадлежности. Если жизнь мне и принадлежит, то лишь временно: «во время жизни», пока я жив. «До» и «после» – сферы, где собственником моей жизни является или безличная природа, или личный Бог, но, во всяком случае, не я сам. Да и в самой жизни, которая постоянно раздираема заботами, страхами, предрассудками, вытекающими из смертной сущности, мне также по существу ничего не принадлежит. Мои мысли, идеи, воплотившиеся в формах культуры, уже принадлежат культуре, а не мне; мои дети, ставшие членами социума, уже принадлежат обществу, а не мне; мое тело, смертью превращенное в биофакт, уже принадлежит окончательно природе – и так все, что связано со мной. Что мне остается? Чувства, страдания, переживания, не имеющие никакого всеобщего значения. Но они-то мои. Как только что-то претендует на всеобщность, оно выходит за границы моей самости и отчуждается от меня в безликую универсальность общества, природы, культуры. Значит, мне принадлежит то, что никогда не сможет стать чужим, что не сможет быть передано другой инстанции, даже другому (любимому) человеку. Передача – отдача – отчуждение; такова неумолимая логика, «формула непринадлежности».
Еще остается боль. Боль – то, что всегда возвращает меня к самому себе, отсылает меня к себе. В предельном крике боли моя принадлежность достигает вершины. Предельная боль очерчивает радикальный круг моего одиночества. Первое движение самости, к которой пришла боль, – передать ее другому: врачу, близкому, Богу. Но когда понимаешь, что никто, никто не берет твою боль, что ты в ней остаешься один на один с самим собой, тогда либо прозреваешь в свою собственную принадлежность, либо не прозреваешь. Пределом боли является смерть; и если в боли мы достигаем максимум одиночества, а значит – принадлежности, то смерть и есть абсолютная наша принадлежность. То, что максимально отчуждает нас от всего, максимально нас и приближает ко всему. Значит, в смерти, и нигде иначе, мы достигаем полноты бытия, достигая полноты своей принадлежности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: