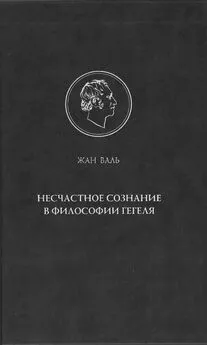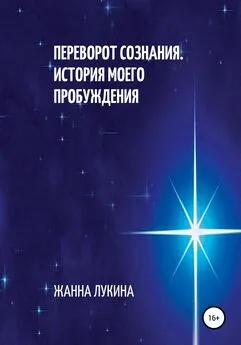Жан Валь - Несчастное сознание в философии Гегеля
- Название:Несчастное сознание в философии Гегеля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Владимир Даль
- Год:2006
- Город:Санкт–Петербург
- ISBN:5-93615-061-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Валь - Несчастное сознание в философии Гегеля краткое содержание
В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является. Отчасти именно рефлексия над христианским мышлением, над представлением о Боге, создавшем человека, приводит Гегеля к концепции конкретного всеобщего. За философом мы обнаруживаем теолога, а за рационалистом — романтика. Для широкого круга читателе
Несчастное сознание в философии Гегеля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Скрытая цель «Феноменологии» — описать несчастное сознание не с точки зрения его замкнутости на разрывающем его противоречии, а с точки зрения его открытости тому, что его, собственного говоря, и разрывает, — открытости Абсолюту. Христианство, обнаруживающее этот разрыв в самом Боге, устанавливает тождество между, с одной стороны, несчастным сознанием и, с другой — таким же несчастным, страдающим, разорванным, «распятым» Абсолютом. Открытым несчастное сознание становится тогда, когда ему открывается Бог, который «в свою очередь» «…отделяется от самого себя, чтобы соединиться с самим собой». [203]Тайна несчастного сознания в том, что «…только то, что не является божественным, что отделено от божественности, мо — жет представлять божество как находящееся вне его». [204]
В полном соответствии с программой исследования эзотерического, а не экзотерического Гегеля Ж. Валь видит в философии не путь к замкнутой системе знаний, а способ открытия сознания Абсолюту (или Абсолюта сознанию). Искомый «открытый» дискурс может быть в случае с философией связан только с попытками последней разорвать круг собственной имманентности и включить в число доступных для философской мысли предметов область абсолютного. Условно эти попытки могут быть сведены к проблеме сакрального содержания Абсолюта и доступности этого содержания методам и инструментам философии. Очевидно, что именно сакральное содержание Абсолюта элиминируется всякий раз тогда, когда оно становится объектом научного исследования; вместе с тем именно сакральное содержание свойственно Абсолютному в первую очередь и поэтому вне связи с этим содержанием нельзя получить более — менее точного представления о его сущности. Кроме того, вопрос, выражающий эту проблему (хотя и не вполне адекватно), фактически является частным случаем вопроса о границах и возможностях научного познания в целом. Может ли сакральное содержание какого‑либо феномена (исторического, культурного, религиозного) быть объектом научного анализа? Отрицательный ответ выглядит слишком подозрительно в рамках научного мировоззрения, которое остается доминирующим в современном мире. Подозрение сохраняется даже несмотря на то, что в истории философии возможно обнаружить некоторые варианты внушительной аргументации в пользу данного отрицательного ответа.
Имеется в виду прежде всего остального критическая философия И. Канта и ее более поздние интерпретации — одна из форм несчастного сознания, именуемая Ж. Валем «кантианством». Область сакрального здесь оказывается «вещью — всебе», недоступной опытному познанию, имеющему дело исключительно с феноменами. Строго говоря, сакральные феномены в таком случае вообще не могут быть даны в опыте и, следовательно, само выражение «сакральный феномен» является недоразумением. Если бы во времена И. Канта теология была бы хоть немного озабочена феноменологией сакрального, то скорее всего сам И. Кант включил бы сакральные феномены в разряд антиномий теологической идеи, имея на то полное право. Понятие сакрального, если такое возможно, или даже представление о сакральном, пусть даже очень смутное, в любом случае может быть только чем‑то безусловным. Но в опыте не может быть ничего безусловного. Поскольку опыт, как совокупность эмпирических созерцаний, есть единственное место «обитания» феноменов, постольку безусловные феномены невозможны, а следовательно, как частный случай невозможны и сакральные феномены.
Следует вспомнить, что преодоление кантовских антиномий (в том числе и имплицитно предполагаемых) в дальнейшей истории философии осуществлялось различными способами. Самый простой из них сводится к отрицанию всего того, что связывается в кантовской философии с «вещью — всебе». Остается только опыт, только чувственная реальность, и тогда сакральный феномен оказывается проявлением самой этой единственно возможной реальности, а не проявлением чего‑то находящегося за пределами опыта. В сакральных феноменах нет ничего необычного, их действительным содержанием является все тот же самый обыденный опыт, а все необычное (= сакральное) появляется уже в процессе истолкования, искаженного отображения этого опыта. Само сакральное и, следовательно, сама религия оказываются чем‑то недействительным, и все существующие психоаналитические, марксистские, позитивистские и постпозитивистские концепции религии относят сущность последней к такой области реальности, которая в любом случае и всегда соприкасается с обыденным чувственным опытом. Объяснять в таком случае следует не феномен сакрального как таковой, а процесс мистификации обыденного и устойчивую потребность человечества в такой мистификации. Философия религии превращается здесь в философию мистификации.
В рамках такого варианта решения антиномий содержание любой религии неизбежно будет изображаться излишне сложным, излишне богатым и многообразным. Требуется сведение этого содержания к вещам более простым и привычным, требуется редукция. В философии религии Гегеля такая редукция недопустима, «вещь — всебе» не только не может быть сведена к «вещи — для — нас», но и само содержание «вещи — всебе» оказывается для Гегеля недопустимо бедным и несопоставимым с религиозным представлением об Абсолютном. [205]Философия религии возможна только как философия, располагающая понятием Абсолютного, и данное понятие должно включать все богатство содержания религиозных представлений об Абсолютном. Такая философия религии, не отступая от истины изначального замысла, не может быть не чем иным, как религией в форме понятия. Поэтому в рамках философии религии Гегеля невозможно находиться где‑то в стороне от религиозного содержания представлений об Абсолютном, и все эти представления должны быть включены в содержание Абсолютного Понятия не как ложные, а как истинные. Во всех остальных случаях познание в действительности остается на уровне рассудка, для которого объект познания всегда расположен вне понятия, и тогда познание неизбежно оказывается познанием высшего с позиций низшего. Поскольку рассудок и наука, основанная на рассудке, претендуют самое большее на статус формы объективного духа, то следует вспомнить, что религия у Гегеля является бесспорной формой абсолютного духа. Отсюда очевидна бесплодность любой рассудочной философии религии, которая неизбежно окажется в любом из своих вариантов упрощением своего предмета.
Но точно так же очевидна для Гегеля возможность разумного познания религии, возможность такого познания, которое включает в понятие, как результат познания, все религиозное содержание как истинное. Остается неясным, с чем именно, кроме своей собственной логики, связывал Гегель действительность такого познания, но в любом случае результат познания, само Абсолютное Понятие будет иметь фантастически формальный характер. Во избежание этого Абсолютное должно быть познано не как абстрактное тождество понятия с самим собой (примером которого может служить «вещь — всебе» И. Канта), а как конкретное всеобщее тождество. Такое тождество обязательно включает в себя сакральное содержание, без которого религия перестает быть действительно религией. И здесь Гегель совершает удивительную подмену понятий, которая не может рассматриваться как случайность, поскольку повторяется неоднократно, да и в целом играет существенную роль в его системе абсолютного идеализма. «Религия есть та форма сознания, в которой истина доступна всем людям, какова бы ни была степень их образования; научное же познание истины есть особая форма ее осознания, работу над которой готовы брать на себя лишь немногие. Содержание этих двух форм познания — одно и то же, но подобно тому, как некоторые вещи, как говорит Гомер, имеют два названия: одно на языке богов, а другое — на языке недолговечных людей, — так и для этого содержания существуют выражения на двух языках: на языке чувства, представления и рассудочного, гнездящегося в конечных категориях и односторонних абстракциях мышления, и на языке конкретного понятия». [206]Следует обратить внимание, что Гегель, для того чтобы более четко провести свое собственное различие, обращается за помощью к Гомеру. Но различие Гомера между языком людей и языком богов имеет совершенно другой смысл, нежели гегелевское различие между языком религии и языком «конкретного понятия», то есть языком философии. Если Гомер имеет в виду под языком богов религию, то Гегель очевидным образом относит язык религии к языку людей. Религия всегда имеет публичный характер и поэтому пользуется языком, который должен быть понятен всем. Нет ничего удивительного и в том, что философия оказывается языком богов, но все эти утверждения и в этой цитате, и в других местах у Гегеля основываются на отождествлении религии и рассудочного познания. Декларируется, что религия есть форма Абсолютного, но фактически религия почти всегда у Гегеля рассматривается как форма объективного духа, снятая в философии абсолютного идеализма. Разумеется, и этому в гегелевской философии можно найти свое объяснение постольку, поскольку все, что не конкретно, является абстрактным, и, следовательно, сама философия Гегеля, уже обладающая наличной действительностью, в момент своего появления превращает, будучи высшей формой познания Абсолютного, относительно низшую форму такого познания, какой теперь уже оказывается религия, в нечто вне — положенное себе, а следовательно, в нечто одностороннее и абстрактное, располагающееся теперь в стихии рассудочного познания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: