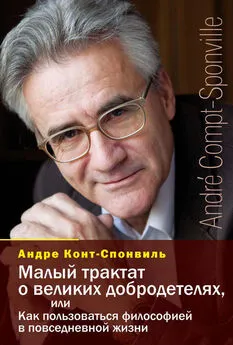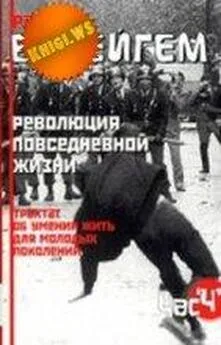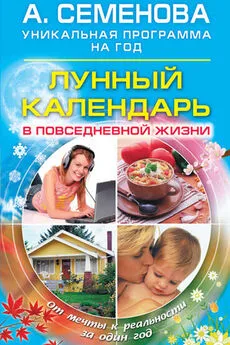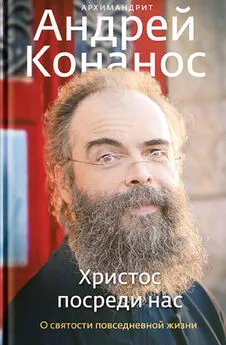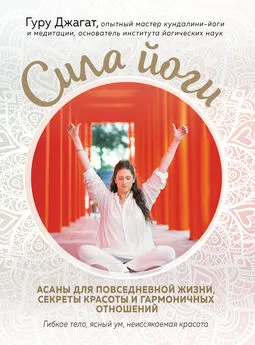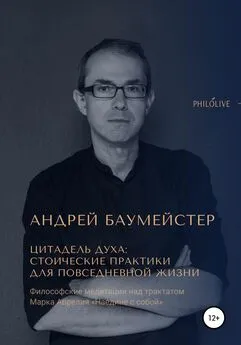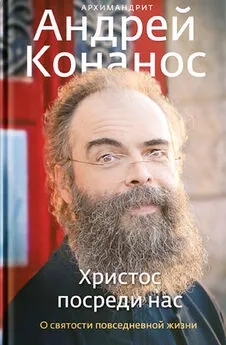Андре Конт-Спонвиль - Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни
- Название:Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Этерна»2c00a7dd-a678-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-480-00290-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андре Конт-Спонвиль - Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни краткое содержание
Книга известнейшего современного французского философа о моральных абсолютах и основных добродетелях. Интеллектуальный бестселлер, пользующийся огромным успехом во многих странах мира.
Для широкого круга читателей..
Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что касается последней гипотезы Юма, то от нее, признаться, по спине пробегает холодок. Больно читать строки, написанные этим гением:
«Если бы существовала разновидность созданий, живущих среди людей, созданий, наделенных разумом, но настолько слабых как в физическом, так и в нравственном отношении, что они были бы неспособны оказать малейшее сопротивление и никогда, даже в самой оскорбительной ситуации, не проявили бы своего гнева, я думаю, что мы были бы обязаны, согласуясь с законами человечества, обращаться с этими созданиями мягко, но, собственно говоря, мы не обязаны были бы проявлять к ним справедливость, а они не имели бы ни права, ни способности противостоять своим судьям и хозяевам. Наши отношения с ними не могли бы именоваться “общественными”, потому что это название подразумевает определенную степень равенства, а здесь мы имели бы, с одной стороны, “абсолютную власть”, а с другой – “рабскую покорность”. Все, чего нам захочется, они должны немедленно уступить в нашу пользу; все, чем они владеют, остается в их владении лишь с нашего позволения; наше сострадание и наша доброта суть единственные тормоза, спасающие их от нашего произвола. И поскольку от применения власти, установленной самой природой, не может происходить никаких бед, то требования справедливости и прав собственности никогда не будут иметь места в подобном обществе неравенства за их полной бесполезностью » («Учение о справедливости», часть III).
Я привел этот фрагмент целиком, чтобы ничего в нем не извратить. Мы видим, что личные качества Юма, особенно его человечность, не подвергаются сомнению. Но философская основа его рассуждений совершенно неприемлема. Разумеется, я согласен с тем, что в отношениях со слабыми необходимы мягкость и сострадание, и читатель найдет их на страницах этого трактата. Но разве допустимо считать, что мягкость и сострадание способны заменить собой справедливость? Юм пишет, что без «определенной степени равенства» не бывает не только справедливости, но и общества. Прекрасно! Но только следует добавить, что речь идет не о фактическом равенстве и не о равенстве сил, а о равенстве прав ! Между тем, чтобы иметь права, достаточно обладать сознанием и разумом, даже если у тебя нет сил защищаться или нападать на других. Иначе дети и инвалиды не имели бы никаких прав. И в конце концов, никто из людей не имел бы никаких прав (потому что ни один человек не может быть настолько сильным, чтобы гарантировать себе абсолютную защиту от всего на свете).
Представим на минуту этих наделенных разумом и беззащитных созданий, о которых пишет Юм. Имею ли я право (поскольку мягкость и сострадание – вещи иного порядка) эксплуатировать или насиловать их в свое удовольствие? Таково отношение людей к животным, уточняет Юм. А вот и нет! Потому что животные-то как раз и не наделены разумом! Юм это чувствует и потому приводит два других примера. И какие это примеры! «Великое превосходство европейцев над индейскими варварами, – продолжает он, – позволяет нам вообразить себе подобные взаимоотношения, отказавшись в обращении с ними от всякого долга справедливости и даже человечности». Пусть так, но где же тут справедливость? Слабость индейцев по сравнению с европейцами ни у кого не вызывала сомнений, и справедливость по отношению к ним, как показали события, быстро потеряла социальную необходимость. Но разве это значит, что они не имели права на справедливость? Разве можно согласиться с тем, что мягкостью и состраданием мы полностью воздали им должное (и даже не должное, ибо они в силу своей слабости не имели никаких прав, следовательно, мы им ничего не были должны)? На мой взгляд, согласиться с этим невозможно, не отказавшись от самой идеи справедливости.
Монтень, близкий к Юму во многих других вопросах, заметил это. Слабость индейцев должна заставить нас проявить к ним справедливость (а не только сострадание!), и мы жестоко виноваты в том, что злоупотребили своими правами, поправ их права. Справедливость, каждому воздающая по заслугам, не дозволяет убийств и грабежей. Если справедливость возникает для пользы общества, это еще не значит, что она ограничивается исключительно пользой самого этого общества. Монтень, правда, такого вывода не делает, но мне представляется, что он не стал бы против него возражать. Представим себе еще одну Америку, которую мы открываем на другой планете. Америка эта населена существами разумными, но мягкими и беззащитными. Что же, мы опять начнем играть в конквистадоров? Убивать и грабить? Если руководствоваться только корыстью и пользой, то почему бы и нет? Но только не надо называть это справедливостью.
Второй приводимый Юмом пример выглядит забавнее, что не делает его менее спорным. «Во многих обществах женский пол сведен к рабскому состоянию, что объясняют неспособностью женщины в сравнении со своим хозяином и господином владеть чем бы то ни было. Но хотя во всех странах мужчины, объединившись, достаточно сильны физически, чтобы навязать женщинам эту суровую тиранию, умение уговаривать, ловкость и прелести их супруг таковы, что женщины обычно находят возможность нарушить это правило и разделяют с противоположным полом все права и привилегии жизни в обществе». Я не оспариваю ни упомянутого рабства, ни ловкости, ни прелестей. Но разве это рабство справедливо? И было бы оно справедливым в стране, где закон не только не запрещает его, но даже предписывает, по отношению к женщине, полностью лишенной умения уговаривать, хитрости и прелестей? Нет, это немыслимо. Так же немыслимо, как полагать, что единственными ограничениями, которые мы должны соблюдать по отношению к уродливой и неловкой женщине, являются мягкость и сострадание.
Зато у Лукреция, который, как и Эпикур, в отношении справедливости придерживался скорее утилитаристских взглядов, мы находим прямо противоположное суждение. В доисторические времена слабость женщин и детей не только не исключала их из сферы действия справедливости, но и делала справедливость морально необходимой и желательной. «Когда они научились пользоваться жилищами, звериными шкурами и огнем, когда женщина в силу брачных уз стала собственностью одного супруга и они стали вместе растить свое кровное потомство, вот тогда род человеческий начал понемногу терять свою неотесанность. Венера лишила их грубой силы, а дети своими ласками с легкостью побороли природную злобу родителей. Тогда же начали завязываться дружеские связи между соседями, желающими защититься от взаимных обид: они стали вместе заботиться о женщинах и детях, давая понять и на словах, и на деле, что жалеть слабых – справедливо» («О природе вещей», V, 1011–1023).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: