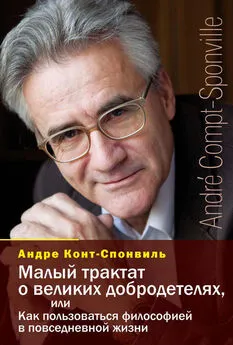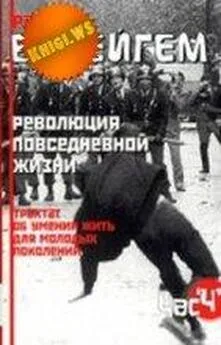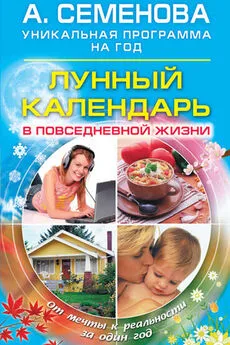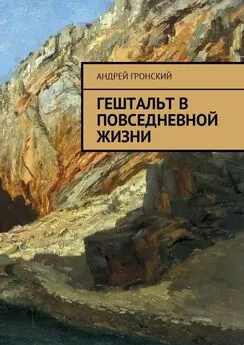Андре Конт-Спонвиль - Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни
- Название:Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Этерна»2c00a7dd-a678-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-480-00290-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андре Конт-Спонвиль - Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни краткое содержание
Книга известнейшего современного французского философа о моральных абсолютах и основных добродетелях. Интеллектуальный бестселлер, пользующийся огромным успехом во многих странах мира.
Для широкого круга читателей..
Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Заметим мимоходом, что сострадание имеет значение и в отношениях с животными. Большая часть наших добродетелей имеет в виду только человека, в чем их величие и ограниченность. Сострадание же, напротив, готово симпатизировать всем, кто страдает. Если мы несем перед животными какие-то обязательства, в чем я не сомневаюсь, то в первую очередь благодаря состраданию. Вот почему сострадание – самая универсальная из наших добродетелей. Мне возразят, что животных можно еще и любить, и проявлять по отношению к ним верность и уважение. Конечно. В западной традиции у нас имеется пример Франциска Ассизского, в восточной – множество аналогичных примеров. Но все-таки было бы неуместно ставить на одну доску чувства, которые мы можем испытывать к животным, с чувствами – несравненно более высокими и требовательными, – которые мы должны испытывать к человеческим существам. Верность своей собаке и верность друзьям – разные вещи. Уважение к человеку, даже незнакомому, несравнимо с уважением к птице или оленю.
Впрочем, в случае с состраданием здесь не все так уж очевидно. Что хуже – влепить пощечину ребенку или замучить до смерти кошку? Если последний проступок хуже, как я склонен полагать, то из этого следует, что несчастное животное заслуживает с нашей стороны большего сострадания. Здесь важнее причиненная боль, чем видовая принадлежность жертвы; сострадание важнее человечности. Сострадание – уникальная добродетель, она открывает наше сердце не только всему человечеству, но вообще всему живому, во всяком случае всему, что живет и страдает. Как показал Леви-Строс (24), основанная на сострадании мудрость отличается той же универсальностью и необходимостью. Это мудрость Будды, но и мудрость Монтеня. Человечность, которая является добродетелью, почти синонимична состраданию, и это о многом говорит. Не только можно, но и должно быть человечным по отношению к животным, и в этом как раз и проявляется превосходство человека над прочими видами – при условии, что он остается его достойным. Ни к кому не испытывать сострадания значит быть бесчеловечным, а на это способен только человек. Здесь уместно заговорить о новом гуманизме, в котором не будет ничего от наслаждения исключительностью своей сущности и своих прав, зато будет исключительная восприимчивость к обязанностям и долгу, накладываемому на нас страданиями других существ. Космический гуманизм – это гуманизм сострадания.
Шопенгауэр и Леви-Строс обильно цитируют Руссо, и нам трудно удержаться от того же. Руссо одним из первых сумел ясно и четко сформулировать главное. Он показывает, что жалость – первейшая из всех добродетелей, и притом единственная, которая носит природный характер. Дело в том, что прежде, чем быть добродетелью, жалость является чувством – «естественным чувством», уточняет Руссо, тем более сильным, что оно, по всей вероятности, ведет происхождение от любви к себе (путем самоидентификации с другими) и умеряет в каждом человеке пылкое желание заботиться о своем благе, поскольку все мы наделены врожденной способностью чувствовать отвращение к чужому страданию. Сострадание без берегов! Если только берегами не служит боль, поскольку отныне я воспринимаю всякое страдающее существо как в некотором роде себе подобное. Сострадать значит соединяться в страдании, и эта неисчислимая общность диктует, вернее предлагает, нам свой закон – закон мягкости. Твори добро себе, причиняя наименьшее, насколько возможно, зло другим. Жалость – это то, что отделяет нас от варварства, как справедливо заметил Мандевиль (25), но для Руссо она еще и матерь всех прочих добродетелей, которые порождаются жалостью.
«Мандевиль прекрасно понимал, что люди со всей их моралью были бы монстрами, не надели их Природа такой помощницей разума, как жалость; но он не понял, что все общественные добродетели, присущие человеку, проистекают из этого единственного свойства. Действительно, что такое великодушие, милосердие, человечность, как не жалость по отношению к слабым, виновным, а то и вовсе по отношению ко всему роду человеческому? Даже доброжелательность и дружба суть производные постоянной жалости, нацеленной на тот или иной объект. Желать, чтобы кто-либо никогда не страдал, означает не что иное, как желать ему быть счастливым» («Речь о происхождении и основаниях неравенства среди людей», I).
Не знаю, следует ли заходить столь далеко, сводя все добродетели к одной. Мне это представляется нежелательным. К чему такие привилегии? Но я всецело убежден в том, что жалость противостоит чему-то гораздо худшему, а именно жестокости и эгоизму. Так же как и великодушие, жалость сама полностью не свободна от того и другого. Напротив – и со времен Аристотеля это стало общим местом – видеть в жалости несчастье, свидетелями которого являемся мы все, поскольку понимаем, что она может коснуться нас и наших близких. Жалость в этом случае – проективный эгоизм, основанный на переносе чувства. То, чего мы боимся для себя, внушает нам жалость к другим, уже ставшим жертвой того или иного несчастья, потому что мы понимаем, что и нас может ждать то же испытание. Почему бы и нет? Но с другой стороны, а что это меняет? Ведь жалость, которую мы испытываем, не становится от этого менее реальной и, добавим, не ослабевает, даже если вызывающие ее несчастья нам уж точно не грозят. Чудовищное страдание родителей, потерявших ребенка, разжалобит и бездетного старика. Можно ли считать жалость абсолютно бескорыстным чувством? Понятия не имею, и, откровенно говоря, мне на это наплевать. Главное, что это чувство реально, и реально сострадательно. Все остальное – малозначительная внутренняя «кухня», значение которой не превышает значения обыкновенной кухни. Рассуждая в подобном духе, можно докатиться то того, чтобы осудить любовь (или отрицать ее существование) только потому, что с любовью связаны некоторые сексуальные отклонения. Фрейд, говоря о любви, был далеко не глуп. Так с какой стати мы должны говорить глупости, рассуждая о сострадании?
Что касается отношения между состраданием и жестокостью, то, как ни парадоксально, их связь вовсе не немыслима. Во-первых, потому что двойственность царит повсюду, дотягиваясь и до наших добродетелей. Во-вторых, потому, что сама жалость может порой провоцировать жестокость. Это ясно показала Ханна Арендт, размышляя о Французской революции («…жалость, понимаемая как первооснова добродетели, оказалась наделена таким потенциалом жестокости, который превзошел самую жестокость» («Эссе о революции», гл. 2)). Это не значит, что следует безоговорочно осудить и жалость, и революцию. Это значит, что следует проявлять определенную бдительность как к первой, так и ко второй. Тот факт, что жалость отделяет нас от худшего и противостоит худшему, не исключает вероятности того, что иногда она нас к этому худшему толкает. Жалость – не гарантия и не панацея. Ханна Арендт справедливо указывает, что жалость во время террора могла служить оправданием насилия и жестокости только в силу того, что воспринималась как абстракция. Из жалости к несчастным вообще, то есть к народу – в том смысле, какой вкладывали в это слово в XVIII веке, – сторонники террора без колебаний добавили к их числу еще несколько конкретных несчастных. По мнению Ханны Арендт, именно здесь проходит грань между жалостью и состраданием: сострадание, в отличие от жалости, понимает только частное, игнорируя общее; поэтому оно не может позволить, чтобы страдал хоть один человек, тем более не может находить источник вдохновения в страданиях целого класса. Жалость абстрактна, склонна к обобщениям, болтлива. Сострадание конкретно, единично (даже если бы мы обладали способностью Иисуса сострадать всем людям сразу) и не любит лишних слов. Отсюда – резкость, а порой и жестокость жалости, в отличие от сострадания с его мягкостью. Если принять это различие, то можно сказать, что Робеспьер и Сен-Жюст во имя жалости (к бедным вообще) отказались от сострадания (к противникам Революции как отдельным личностям). Но тогда жалость выступает как абстрактное чувство (Спиноза сказал бы «воображаемое чувство»), а добродетелью является сострадание.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: