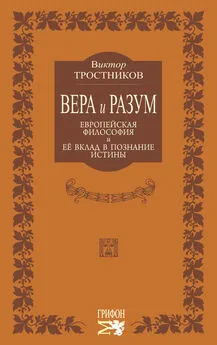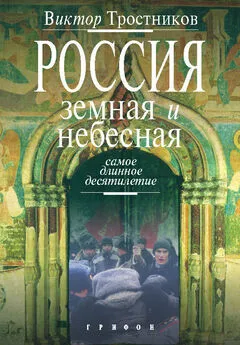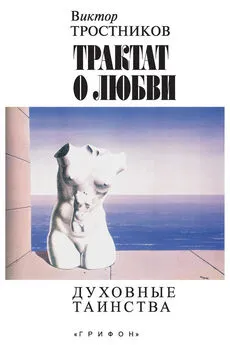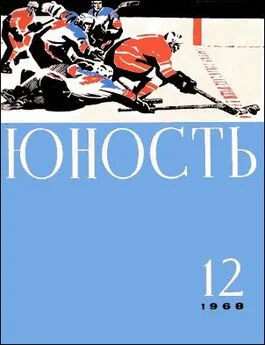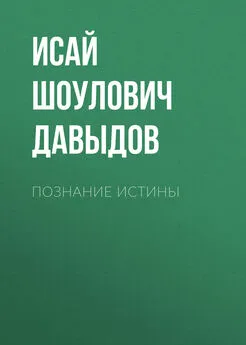Виктор Тростников - Вера и разум. Европейская философия и ее вклад в познание истины
- Название:Вера и разум. Европейская философия и ее вклад в познание истины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Грифон»70ebce5e-770c-11e5-9f97-00259059d1c2
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98862-060-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Тростников - Вера и разум. Европейская философия и ее вклад в познание истины краткое содержание
Автор книги – известный религиозный философ – стремится показать, насколько простая, глубокая и ясная вещь «настоящая философия» – не заказанное напористой и самоуверенной протестантской цивилизацией её теоретическое оправдание, а честное искание Истины – и как нужна такая философия тем русским людям, которые по своей натуре нуждаются в укреплении веры доводами разума.
В форме увлекательных бесед показаны не только высоты и бездны европейской философии, но и значительные достижения русской философской школы, уходящей своими корнями в православное мировосприятие. Прослеживаются истоки современного западного антропоцентризма и разрыва с Божественной Истиной.
Данная книга – пример серьёзного и в то же время увлекательного исследования, она может использоваться в качестве компактного пособия по освоению философии для преподавателей, учащихся средних и высших учебных заведений, а также для самообразования.
Для всех, кто хочет научиться серьёзно мыслить, познакомиться с философским наследием Европы и России, а также думает о будущем своей страны.
Вера и разум. Европейская философия и ее вклад в познание истины - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это увлечение «немцами» было полезной подготовкой к началу самостоятельного философского творчества – оно позволило освоить категориальный аппарат метафизики, научиться строгому логическому мышлению. Но долго этот вступительный период продолжаться не мог, и уже в сороковых годах наблюдаются признаки появления у нас самобытной русской философской мысли, иными словами, зарождения в России собственной национальной философской школы. Её основателями надо считать «старших славянофилов»: Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856), Алексея Степановича Хомякова (1804–1860), Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860), Юрия Фёдоровича Самарина (1819–1876).
Сначала несколько слов об этом, весьма неудачном термине «славянофилы». В переводе это «любители славян». Однако никакой особой любви к полякам или хорватам названные мыслители не питали, хотя это – славяне. Справедливо было бы сказать, что они любили русских людей, но даже эпитет «русофилов» тоже оказался бы неправильным, ибо они скорее любили не русских как этническую группу, а Россию как историческую единицу со всеми населяющими её племенами и народами. Словечко «славянофилы» пустил в оборот Батюшков, а ведь, как говорил Гоголь, ежели у нас кого наградят прозвищем, так потом его ничем не отдерёшь, неважно, справедливо оно или нет. Столь же нелепо весьма распространённое мнение о славянофилах как о «квасных патриотах», ходивших в косоворотках и ненавидевших всё иностранное. Они имели европейское образование, свободно владели многими языками, а Киреевский вообще учился в Германии, слушал лекции Гегеля и дружил с Шеллингом, нередко заходя к нему в гости, чтобы попить чайку. Характерно, что первая газета, которую начал издавать Иван Киреевский, называлась «Европеец» (её почти сразу закрыли). Они прекрасно знали и любили западную культуру, но считали нецелесообразным для России её копировать, причём нецелесообразным, в частности, из-за того, что это будет противоречить дальним интересам самого Запада. Они считали нашей исторической задачей сохранение самобытности своего развития и своих жизненных устоев – не только для самих себя, но и для всего человечества, ибо усматривали в этих устоях нечто имеющее универсальную ценность. Эта мысль была центральным положением учения славянофилов, поэтому можно сказать, что наша национальная философия началась с историософии.
Это вполне логично. Ведь из-за чего возник у нас в царствование Александра I весь этот «философский бум»? Из-за потребности образованного слоя, становящегося всё более многочисленным и вбиравшим в себя представителей разных сословий, понять суть своего государственного и общественного служения, а поскольку такое служение надо приноравливать к исторической действительности, главным вопросом для этих людей становился вопрос о том, каков исторический путь России, куда она должна двигаться. На него давались два принципиально разных ответа. Первый звучал так: не надо изобретать никаких велосипедов – есть уже проторённый Европой и показавший себя очень многообещающим путь к прогрессу, то есть к усилению через развитие науки и техники господства человека над материей, к повышению уровня жизненного комфорта и к «смягчению нравов», – путь, которым надо следовать и России, и всему остальному миру. Сторонников этой точки зрения прозвали «западниками». Их оппонентами стали «славянофилы» – об их позиции только что было сказано. Какого-то серьёзного раскола в обществе это разногласие не вызвало, дело ограничивалось теоретическим диспутом. Но власти относились к спорящим сторонам неодинаково. Казалось бы, царская администрация должна была состоять из государственников, даже «реакционеров», которым свойственна тяга к изоляционизму, а следовательно, славянофилы окажутся ей более родственными душами, чем западники, но на деле всё было наоборот. Западникам в николаевской России (даже ругающим Отечество) был открыт зелёный свет, в то время как истинных патриотов, славянофилов всячески притесняли, относясь к ним как к общественно опасному элементу. Хомякову полиция запретила читать свои стихи даже близким друзьям, а Аксакова заставила сбрить бороду. Возможно, такая дискриминация объяснялась тем, что Россия готовилась к отмене крепостного права и в качестве подготовительных мероприятий тогдашние государственные умы не находили ничего лучшего, чем реформы западнического типа. Русское самодержавие стало действительно русским только при Александре III, но это были уже восьмидесятые годы, до которых из «старших славянофилов» никто не дожил.
Тем не менее они сыграли огромную роль в становлении нашего национального сознания и, как теперь выясняется, сделали важнейшее историческое открытие, сравнимое по своему значению с открытием в области атомной физики Нильса Бора. Оно стало теоретической основой всех современных исследований по всеобщей истории и социологии, хотя на его авторов никто не ссылается.
Беседа двадцать вторая
Первые научные результаты русской философии
Приступая к заключительной части наших бесед – к разбору русской философской школы, нам следует вначале ознакомиться с тем, что за люди были её отцы-основатели: ведь черты личности всякого мыслителя сказываются на том, как он мыслит и что выбирает предметом своего осмысления.
Иван Васильевич Киреевский родился в Москве в семье помещика-дворянина. В Первопрестольной, а также в родовом имении Долбино в сорока верстах от Оптиной пустыни он и прожил всю жизнь, но умер (от холеры) в Санкт-Петербурге. Похоронен он в Оптиной, где его могилу почитатели философии могут посетить и сегодня.
Киреевский от рождения был вундеркиндом. Раскрытию его способностей содействовали воспитание, которым руководил родственник его матери знаменитый поэт Жуковский, а также общая интеллектуальная атмосфера, царившая в семье. Выйдя после смерти мужа за европейски образованного помещика Елагина, его мать учредила в своём московском доме салон, который посещали литераторы. В семилетием возрасте Ваня легко обыгрывал в шахматы всех взрослых, к двенадцати годам свободно владел французским и немецким, позже освоил латынь и греческий.
В двадцатитрёхлетнем возрасте Киреевский влюбился в Наталью Петровну Арбенёву, сделал ей предложение, но получил отказ. Это так потрясло его чувствительную и жаждущую любви натуру, что он погрузился в депрессию. Опасаясь за его здоровье, родные отправили его за границу. Там он несколько развеялся, окунулся с головой в живую атмосферу немецкой философии. Вернувшись в Россию, «средь шумного бала, случайно» вновь встретился с Наташей, и угаснувшее было чувство вспыхнуло с новой силой. На этот раз он встретил отклик, и вскоре они обвенчались.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: