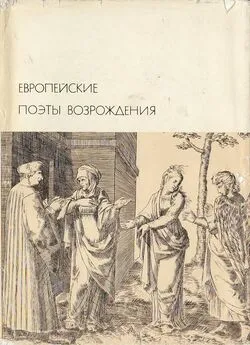Коллектив авторов - Гуманисты эпохи Возрождения о формировании личности (XIV–XVII вв.)
- Название:Гуманисты эпохи Возрождения о формировании личности (XIV–XVII вв.)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98712-175-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Гуманисты эпохи Возрождения о формировании личности (XIV–XVII вв.) краткое содержание
Книга дает возможность проследить становление и развитие взглядов гуманистов Возрождения на человека и его воспитание, составить представление о том, как мыслители эпохи Возрождения оценивали человека, его положение и предназначение в мире, какие пути они предусматривали для его целенаправленного формирования в качестве разносторонне развитой и нравственно ответственной личности. Ряд документов посвящен педагогам, в своей деятельности руководствовавшимся гуманистическими представлениями о человеке.
Книга обращена к широкому кругу читателей.
Гуманисты эпохи Возрождения о формировании личности (XIV–XVII вв.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Далее немало помогает, если тот, кто берет мальчика на воспитание, придает душевному обращению с ним вид родительской любви. Отсюда произойдет, что и мальчик будет охотнее учиться, а сам учитель почувствует от работы меньше неприятностей. Действительно, в любом деле значительную часть трудностей устраняет любовь. А так как, согласно древней пословице, подобное радуется подобном у, то наставнику, чтобы его любил мальчик, надо в какой-то мере ребячиться. Не желательно, однако, чтобы детей для обучения основам грамотности отдавали под опеку очень старым людям, почти преклонного возраста. Ведь те сами поистине дети, не изображают лепет, но поистине лепечут. Я предпочел бы человека цветущего возраста, от которого мальчик не отворачивается с отвращением и который не стыдится принимать какую угодно личину. Такой учитель, формируя ум, сделает то же самое, что делают обычно родители и кормилицы при формировании тела. Как учат ребенка говорить? С помощью шепелявого языка приспосабливают слово к детскому лепету. Как учат есть? Сами кормилицы и матери разжевывают молочную кашу и, разжевав, понемногу кладут в рот ребенка. Как учат ходить? Сгибают корпус и сокращают свои шаги, соизмеряя их с шагами ребенка. Но не кормят ребенка какой угодно пищей и не вливают в рот больше, чем он может проглотить, и постепенно, по мере того как он растет, доходят до более твердой пищи. Сначала требуется пища знакомая, не очень отличная от молока, но и она, если класть ее в рот больше, чем надо, может задушить ребенка или будет им изрыгнута, запачкает одежду, а даваемая постепенно и понемногу, окажется полезной. То же самое случается, как мы видим, с небольшими сосудами с узким горлышком, если вливаешь много, то вливаемая жидкость с брызгами изливается наружу. Если мало и, как говорится, по капле, то сосуды, правда, мало-помалу и постепенно, но все же наполняются. Следовательно, как небольшим количеством пищи, и притом даваемой постепенно, питаются нежные тельца детей, так равным образом умы их питаются соответствующими им знаниями, но даваемыми постепенно и словно в игре; мало-помалу дети привыкают к большему и при этом не чувствуется утомления, так как маленькие прибавления так скрывают ощущение тяжести, что приближают их к вершине успеха не менее, чем атлета, который, как рассказывают, привыкнув ежедневно нести теленка на расстояние в несколько стадий, принес его, уже ставшего быком, без всякого труда [402]. Ведь нарастание тяжести не чувствовалось, так как вес добавлялся ежедневно. Но некоторые требуют, чтобы дети сразу же становились зрелыми людьми, между тем как они не учитывают возраст, но измеряют способности детей собственными силами. Они сразу же сурово настаивают, сразу требуют работы в полную силу, сразу же хмурят лоб, если ребенок отвечает хуже ожидаемого, и так раздражаются, как если бы дело имели со взрослым, забыв, очевидно, что сами были детьми. Насколько человечнее увещевание Плиния одному чуть более суровому грамматику. «Подумай о том, – говорит он, – что он – мальчик, и что ты был когда-то таким» [403]. А многие так неистовствуют в отношении слабого возраста, словно не помнят, что они и их ученики – люди.
Ты попросишь показать тебе те знания, соответствующие способности детского возраста, которые должны быть сразу же по каплям влиты маленьким. Прежде всего это практическое знание языков, которое свойственно детям без всякого усердия с их стороны, в то время как взрослые, затратив огромное старание, с трудом приобретают эту способность. И к этому, как мы сказали, побуждает детей некая врожденная страсть подражать, след чего мы видим в скворцах и попугаях. Что прекраснее поэтических вымыслов, соблазны которых так ласкают слух детей? Впрочем, даже взрослым они немало помогают не только познавать язык, но и формировать суждения и обогащать речь. Что охотнее будет слушать мальчик, чем басни Эзопа, которые с помощью смеха и шутки передают тем не менее серьезные предписания философии? Та же польза и от прочих вымыслов древних поэтов. Мальчик слушает, как спутники Улисса искусством Цирцеи были превращены в свиней и других животных [404]. Рассказ об этом вызывает смех, но тем временем мальчик узнает главное в моральной философии: те, кто не руководствуются правильным суждением, но влекутся властью страстей, не люди, но звери. Сказал бы стоик серьезнее? И тем не менее тому же учит смешной вымысел. Дело столь очевидно, что я не буду задерживаться на многих примерах. Далее, что изящнее буколической песни? Что сладостнее комедии? Основанная на изучении характеров, она волнует и неученых людей, и детей. Но сколь многое из философии постигается здесь с помощью шутки? Добавь к этому названия всех вещей, в чем сегодня на диво слепы даже те, которые слывут прекрасно образованными. Наконец, краткие и остроумные сентенции; в этот жанр входят обычно пословицы и высказывания знаменитых людей, с помощью их одних некогда распространялась обычно в народе философия.
Уже в самих маленьких детях иногда обнаруживается некая особая склонность к определенным дисциплинам, как, например, к музыке, арифметике или космографии. Я ведь сам знал тех, кто был решительно неспособен к наставлениям грамматики и риторики, а к тем, более тонким, дисциплинам оказывался очень восприимчив. В таком случае надо природе помогать в том направлении, к которому она склонна сама по себе. А при склонности затрачивается наименьший труд, точно так же в противном случае «ты ничего не скажешь и не сделаешь вопреки Минерве» [405]. Я знал мальчика, который еще не умел говорить и для которого не было ничего слаще, чем, листая том, изображать читающего. И хотя он делал это иной раз в течение многих часов, он не испытывал никакого отвращения. И как бы сильно он иногда ни плакал, всегда, однако, успокаивался, когда ему давали книгу. Эта вещь внушила родителям добрую надежду, что он станет когда-нибудь ученым мужем. Вдобавок и имя его было неким радостным предзнаменованием. Его ведь звали Иеронимом [406]. Но какой он теперь, не знаю, ибо взрослым его не видел.
Педагог будет неусыпно заботиться об их отборе, чтобы предложить главным образом то, что сочтет наиболее привлекательным для детей и наиболее им близким и приятным и, так сказать, богатым цветами. Урожай первого возраста жизни, или весны, состоит из цветов, ласково улыбающихся и радостно зеленеющих трав, пока возраст зрелости, осень, спелыми плодами не переполнит житницу. Как нелепо искать весной зрелую виноградную гроздь, осенью – розу, так наставнику надо внимательно следить, что каждому возрасту соответствует. Детству соответствуют радостные и приятные вещи. Впрочем, из занятий надлежит вообще удалить печаль и суровость. Если не ошибаюсь, древние даже пожелали выразить это, приписав девственным музам замечательную красоту, кифару, пение, пляски и игры в прекрасных, покрытых зеленью местах и дав им в спутницы Харит: успех в занятиях [думали они] зависит преимущественно от взаимного благоволения душ, откуда древние и назвали эти занятия науками человечности. Но ничто не мешает, чтобы спутницей наслаждения была польза, а добродетель была связана с веселостью. И все эти столь плодотворные вещи мальчик узнает без всякой скуки. В самом деле, что препятствует тому, чтобы он изучал те самые работы (либо остроумную басенку поэтов, либо изящную сентенцию, либо занимательную историйку, либо искусную притчу) там, где впитывают и заучивают нелепую песню, по большей части шутовскую, достойные осмеяния россказни безумных старух, сплошной вздор [болтающих] женщин? Сколько сновидений, сколько пустячных загадок, сколько бесполезных заклинаний от лемуров, привидений, злых духов, колдуний, ламий, эфиальтов, леших и демогоргон [407], сколько вредной лжи из простонародных историй, сколько вздора, сколько беспутных высказываний храним мы в памяти, даже став взрослыми, из того, что услышали среди ласк и игр от пап, дедушек и бабушек, мам и девушек, сидящих за прялкой?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: