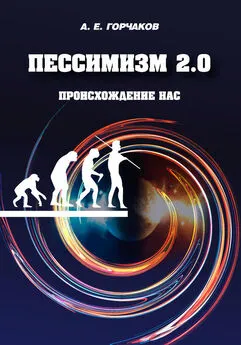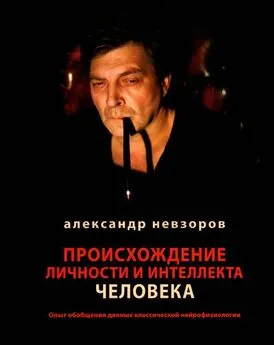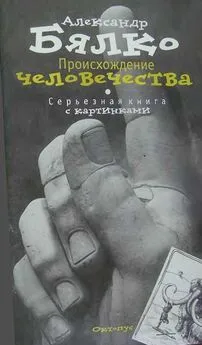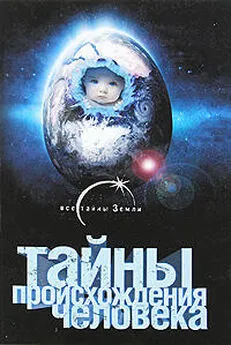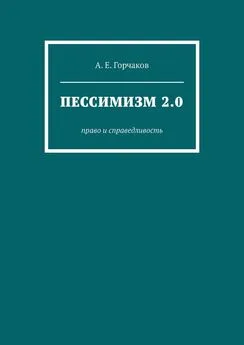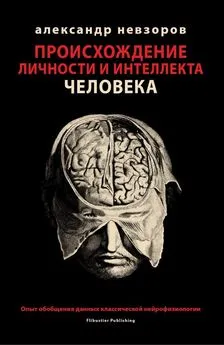Александр Горчаков - Пессимизм 2.0 Происхождение нас
- Название:Пессимизм 2.0 Происхождение нас
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентБиблио-глобус32b6633e-29eb-11e4-87ee-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906454-81-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Горчаков - Пессимизм 2.0 Происхождение нас краткое содержание
Человек не присутствовал при своем происхождении. Не мог. Поэтому мы постоянно пытаемся понять себя. Почему Каин убил Авеля? Почему Герострат сжег храм, а мы не можем забыть его поступок? Мы пользуемся огнем с незапамятных времен, но до сих пор не предложили объяснения этому факту. Ответы на эти вопросы человек ищет уже много столетий; мы думаем, что они помогут понять действия людей, особенно в экстремальных ситуациях, как, например, в случае с А. Брейвиком. В этой книге предпринята попытка, опираясь на философскую концепцию М. Хайдеггера, объяснить, почему такое вообще возможно и почему далеко не всегда действует «моральный закон внутри нас».
Пессимизм 2.0 Происхождение нас - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Забота присуща человеку до всякого присутствия. Она лежит в основе фактичного поведения и положения присутствия. Это означает, что человек всегда уже допускает имение-дела со встретившимся подручным. Первыми существами на земле, которых мы относим к роду Homo, были Homo habilis, т. е. люди, про которых можно предположить, что им уже была присуща забота. Более того, присутствие, спрашивающее о своем бытии, не обязательно есть синоним первых Homo, возможно, что эта способность проявляется позднее, например, начиная с первых античных философов. Где проходит грань между человеком, которому присуща забота, и присутствием, М. Хайдеггер не говорит.
На момент написания М. Хайдеггером его знаменитой книги «Бытие и время» неандертальцы и их предшественники еще не отождествлялись с современными людьми. Нам сегодня известно, что неандертальцы обладали чертами, ранее приписывавшимися только Homo sapiens. Л. Б. Вишняцкий пишет о том, что они использовали почти одинаковый с сапиенсами набор орудий, хоронили своих родичей и даже иногда оставляли в захоронениях погребальный инвентарь. Следовательно, можно сделать вывод о том, что вопрос о происхождении человека, сформулированный с точки зрения философии, есть вопрос об онтологии заботы. Аналогичную формулировку вопроса мы находим и у антропологов, например, у Л. Б. Вишняцкого:
«По какой причине употребление и изготовление орудий, знаковая коммуникация и другие элементы культурного поведения перестали быть для наших предков чем-то случайным, спорадическим и приобрели критически важное для их существования значение? Почему, иными словами, был перейден «культурный Рубикон», отделивший людей, чье существование немыслимо вне культуры, от их животных собратьев? Этот вопрос и составляет самую суть проблемы происхождения человека. Ответить на него – значит понять, как был включен «пусковой механизм» антропогенеза» [74].
Для понимания заботы как структурной целостности бытия присутствия М. Хайдеггер использует феномен ужаса. Хотя ужас и страх – родственные понятия, их различие состоит в их причине: причиной страха всегда является нечто, относящееся к миру, знакомое присутствию, т. е. внутримирное сущее, причиной же ужаса является сам мир как таковой. За-что же ужасается присутствие – за возможность собственного бытия. Возможность собственного бытия ограничивается смертью, поэтому
«…ужас перед смертью есть ужас «перед» наиболее своей, безотносительной и необходимой способностью быть. Перед-чем этого ужаса есть само бытие-в-мире. За-что этого ужаса есть напрямую способность присутствия быть…» [75].
Ужас тем и отличается от страха, что его причину нельзя указать, хотя она и принадлежит миру. Когда угроза представляет собой что-то незнакомое, ранее не встречавшееся, страх сменяется жутью. Если же к этому добавляется и внезапность, то страх становится ужасом. Мир как незнакомое и внезапное и есть причина ужаса. Самое незнакомое и внезапное для присутствия – это его смерть, она лишает его не только всего внутримирного, но и самого бытия. Смерть есть самая своя, безотносительная, не-обходимая, достоверная и неопределенная возможность присутствия. Экзистенция присутствия есть бытие к смерти.
Брошенное в мир присутствие обладает возможностями. Оно свободно, что означает, что оно решается на одни из них и тем самым не реализует другие. В этом «не реализует» по Хайдеггеру основана вина присутствия. Вина дает себя знать через совесть, через ее зов.
Экзистенция направлена и ограничена собственной смертью. Эти два свойства экзистенции объединяются в понятии временность. Временность определяется как смысл заботы. Временность не есть сущее, она выводима из будущего, которое является исходной характеристикой временности и понимается как допущение для своей самой отличительной возможности настать для себя. Конечность – вот в чем проявление временности. Временность временит – что означает способность присутствия порождать настающее.
С временностью связана историчность. «Собственное бытие к смерти, т. е. конечность временности, есть потаенная основа историчности присутствия» [76]. Историчность имеет три составляющие. Во-первых, если присутствие брошено в мир в том смысле, в котором об этом уже говорилось, то естественно, что бытие присутствия характеризуется наличием того, что мы называем наследием. Во-вторых, обладая наследием, присутствие получает и определенный набор возможностей, выбирая из них, оно конституирует свою судьбу. В-третьих, это возвращение к возможностям сбывшегося присутствия, т. е. возобновление. Под возобновлением понимается то, что на бытовом уровне мы называет «продолжением дела…». Присутствие, как мы помним, выбирает из возможностей. Такой выбор называется событием. События и составляют историчность присутствия. Но присутствие не одиноко в мире – оно существует в со-бытии с другими, поэтому «событие истории есть событие бытия-в-мире». Событие судьбы присутствия в со-бытии с другими составляет его исторический путь.
Событие в историчности присутствия на обыденном уровне обозначается «после того, как…», поскольку оно есть осуществленный выбор возможности. Череда событий выстраивается в понимании через «до того…», «потом…», «в продолжение того, как». Все эти выражения неявно (или явно, если это «от… до…») предполагают длительность. Длительность и есть время, понимаемое как отрезок, иными словами, оно есть само-толкование временности. Счет времени и событие порождают мировое время. Этот процесс хорошо заметен у первых историков, где время определяется как некоторые события, происходившие в странах или жизни людей, а не на основе счисления.
Понимание же времени формируется следующим образом:
«… Присутствие как сущее, для которого дело идет о его бытии, применяет себя первично, будь то выражение или нет, для себя самого. Ближайшим образом и большей частью забота есть усматривающее озабочение [77]. Применяя себя ради себя самого, присутствие «растрачивает» себя. Растрачиваясь, присутствие тратит само себя, т. е. свое время. Тратя время, оно считается с ним. Усматривающе-расчетливое озабочение ближайшим образом открывает время и ведет к формированию счета времени. Расчеты с временем конститутивны для бытия-в-мире. Озаботившееся раскрытие в усмотрении [78] , считаясь со своим временем, делает раскрытое подручное и наличное встречным во времени. Внутримирное сущее становится таким образом доступно как «существующее во времени»» [79].
В приведенном фрагменте речь идет о понимании времени как меры самого себя. Но тогда откуда берется само понятие меры? Почему протяжение между рождением и смертью может быть оценено количественно? Наиболее естественно предположить, что оно выводимо из пространства, на что указывает В. И. Молчанов [80]. Такое рассуждение основано на привычном для нас различении предметов окружающего мира, т. е. их ограниченности. Основная мысль такого подхода состоит в том, что наше восприятие пространства дает нам понятие конечного.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: