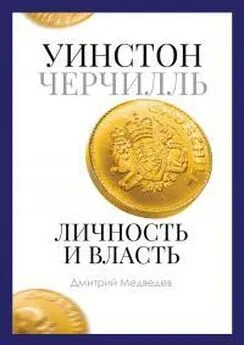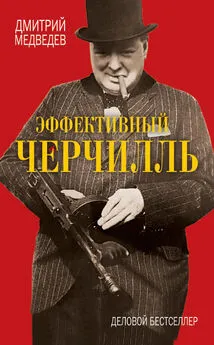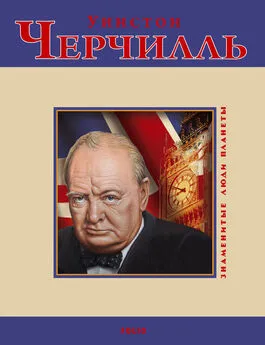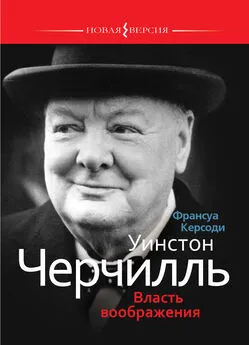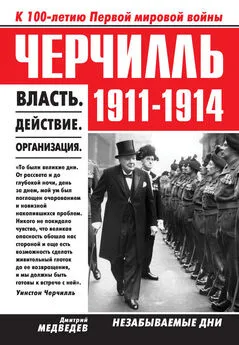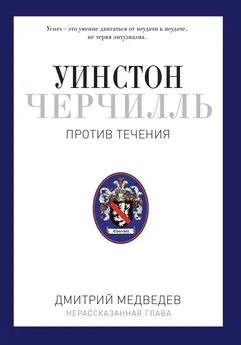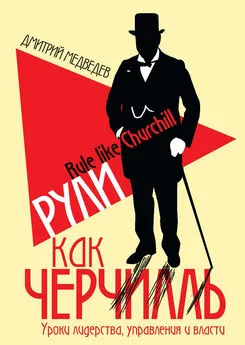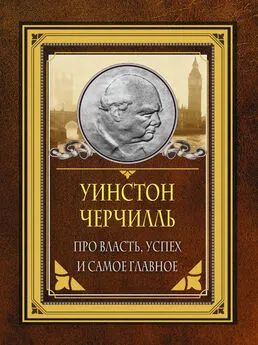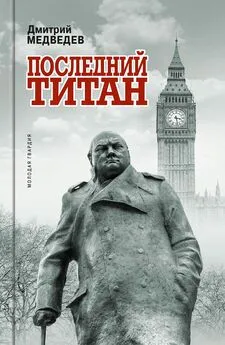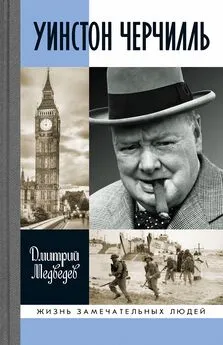Дмитрий Медведев - Уинстон Черчилль. Личность и власть. 1939–1965
- Название:Уинстон Черчилль. Личность и власть. 1939–1965
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Медведев - Уинстон Черчилль. Личность и власть. 1939–1965 краткое содержание
Уинстон Черчилль. Личность и власть. 1939–1965 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я взял за практику, во время восхода солнца сидеть в кабине на месте второго пилота. Когда я расположился в кресле утром 4 августа, я увидел, как на бледном, тускло мерцающем рассвете под нами весело, серебряной извивающейся змейкой растелился Нил, уходящий в бесконечность горизонта. Я очень часто видел, как на Ниле один день сменял другой. Я проехал почти по всей этой реке вдоль и поперек, как в военное, так и в мирное время. Но еще никогда вспышка дневного света не была столь приветлива ко мне. Сейчас я был «человеком на месте». Вместо того чтобы находиться дома, ожидая новостей с фронта, я сам мог направлять их. Это было возбуждающе [396].
Развивая вывод Дж. Роуза, можно добавить, что для Черчилля характерно поэтическое восприятие мира. Хотя он никогда не занимался поэзией — не считая нескольких четверостиший и поэтических работ в юношеском возрасте, — его отличало художественное и образное описание явлений, что находит отражение в подобных фрагментах, а также в активном обращении к поэзии других авторов. На страницах мемуаров он цитирует произведения Зигфрида Сассуна («Изгнание»), Редьярда Киплинга («Минный тральщик»), Томаса Мура («В ночной тишине»), Уильяма Шекспира («Ричард II», «Венецианский купец»), Томаса Грея («Ода на смерть любимой кошки, утонувшей в сосуде с золотыми рыбками»), Артура Клафа («Не говори, что бой бессмысленный»), Александра Поупа («Искусство погружения в поэзию»), Джорджа Байрона («Паломничество Чайльда Гарольда»), Томаса Маколея («Песни Древнего Рима»), Чарльза Мюррея («Звук войны»), Ричарда Барема («Легенды Инголдсби»), Джеймса Монтгомери («С Богом навсегда»), Джона ГринлифаУиттьера («Барбара Фритчи»), Альфреда Теннисона («Ода на смерть герцога Веллингтона»), Чарльза Калверли («Ода табаку») [397].
Большинство исследователей придерживаются более традиционных взглядов, склоняясь к автобиографичной природе «Второй мировой». На этом, например, настаивает Морис Эшли (1907–1994). А Манфред Вайдхорн отмечает, что акцент автора на собственной личности приближает его сочинение к роману. Иная точка зрения у академика В. Г. Трухановского, для которого «шесть томов Черчилля — это, конечно, не историческое исследование». Но в то же время, добавляет он, книги британского политика «содержат богатейший материал, без которого не может обойтись ни один историк-исследователь, обращающийся к проблемам Второй мировой войны»; а также «многие страницы этого труда отмечены несомненным художественным талантом автора». Отечественному исследователю вторит Норман Роуз, заявляя, что речь идет об «историческом живописном полотне, субъективном, но заставляющем думать». Эти тома богаты документами, которые, хотя и «являются бесценными свидетельствами прошлого», преимущественно не содержат ответов, а «подача материала подталкивает читателя к вполне определенным черчиллевским выводам». Кроме того, автор нередко упрощает, «часто описывая сложные вопросы, как битву детей Света и Тьмы» [398].
Последнее упоминание особенно интересно, поскольку раскрывает еще одну грань британского автора. Черчилль, действительно, часто упрощает и подводит читателей к определенному выводу. И этот вывод, как правило, связан с наставлением, которое он стремится донести, и заветом, который он хочет оставить. В этом отношении прав Джон Киган, что Черчилля нельзя назвать «научным историком», скорее, как Кларендон [93]и Маколей, он моралист, рассматривающий историю, как «одно из ответвлений моральной философии» [399]. Неудивительно, что в отличие от большинства других работ, посвященных мировой войне, Черчилль снабдил свой труд «моралью»:
В войне — решительность;
В поражении — мужество;
В победе — великодушие;
В мире — добрая воля.
Более того, в предисловии к первому тому также была добавлена следующая ремарка: «Я надеюсь, что размышления над прошлым могут послужить руководством для будущего, что они позволят новому поколению исправить некоторые ошибки минувших лет и тем самым дадут ему возможность управлять надвигающимися величественными событиями будущего в соответствии с нуждами и честью человечества». К сентенциям также могут быть отнесены: «Безделье порождает всякое зло», или: «Мы должны мало заботиться о чем-либо другом, кроме того, чтобы всеми силами стараться делать все, что мы можем», или: «Нет худшей ошибки для государственного руководителя, как поддерживать ложные надежды, которые вскоре будут развеяны» [400].
К каким же выводам приходит Черчилль? Многие из них были описаны выше, но на одном имеет смысл остановиться отдельно. Уинстон Черчилль, этот защитник парламентаризма и символ британских политических институтов, недружелюбно отзывается о демократии, упоминая ее «трескотню и разноголосицу» и ставя под сомнение сам принцип подобной формы правления, когда судьбу выборов определяет большинство. В качестве примера он приводит французских коллег, которые вместо восстановления сил после Первой мировой войны погрузились в «интриги между различными группировками». Возможность французов самим выбирать своих руководителей, а также властолюбие политиков привело к «непрерывной смене правительств и министров». Результатом «увлечения партий политической игрой» стала «неустойчивость французского правительства», которая негативно влияла на решение насущных задач, связанных с укреплением обороноспособности страны, а также формированием последовательной и адекватной изменившимся условиям внешней политики.
Черчилль критикует победителей Первой мировой войны за их стремление «жить сегодняшним днем, без уверенности в будущем, от одних выборов до других». Он порицает современных политиков, «стремящихся лишь к популярности и успеху у электората вне зависимости от соблюдения жизненно важных интересов государства». Он осуждает авторов Веймарской конституции, которые, желая предоставить германскому народу возможность «осуществлять полный и постоянный контроль над своим парламентом», установили выборы в рейхстаг каждые два года. Вместо достижения благих целей подобное нововведение означало лишь, что и политики, и народ «постоянно жили в атмосфере лихорадочного политического возбуждения и непрерывных избирательных кампаний» [401].
В своих рассуждениях Черчилль опирается на два принципиальных тезиса. Первый — масса неспособна принять правильное решение, поскольку, когда заходит речь о выборах, то приходится иметь дело либо с «пребывающим в неведении, дезинформированным большинством», либо — со «сбитым с толку, недовольным, смущенным, обескураженным, хотя и несколько поверхностно судящем обо всем» общественном мнением. Многие читатели могут возразить и привести солидный перечень примеров, когда народ брал бразды правления в свои руки, громогласно заявляя о своей позиции. Как правило, в таких ситуациях речь идет о революционном способе решения проблем. Черчилль тоже приводит подобные сценарии. Например, волнительные события в Югославии в марте 1941 года: «Народ, активность которого до сих пор была парализована, которым плохо управляли и плохо руководили и который уже давно испытывал такое чувство, что его стараются заманить в ловушку, бросил отважный героический вызов тирану и победителю в тот самый момент, когда тот находился в расцвете своей мощи». Приводя эти пафосные строки, сам автор не поддается эмоциям и сохраняет разум холодным. Он разделяет причину и следствие, отводя «национальному подъему» второстепенную роль. Стимулом или источником, вызвавшим восстание, стал «военный переворот», «задуманный и выполненный небольшой группой сербских офицеров еще до того, как определилось общественное мнение» [402]. Неумолимый апологет индивидуализма, даже в таких массовых проявлениях недовольства, как революция, Черчилль все равно инициаторами событий считает узкую группу избранного меньшинства, определяющего будущее массы и толпы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: