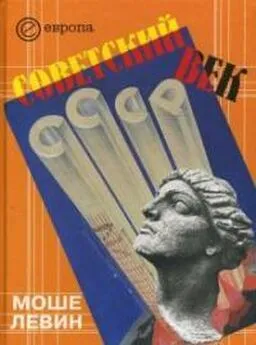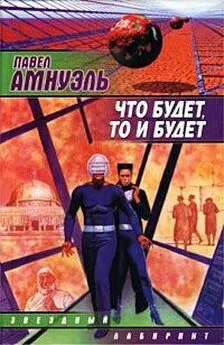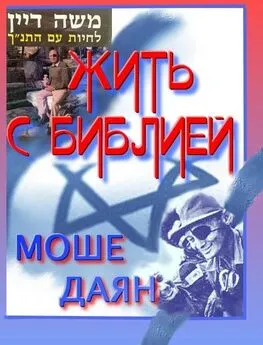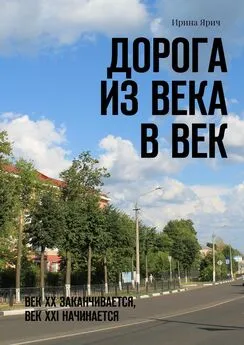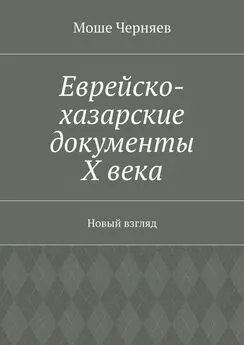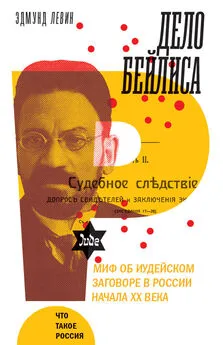Моше Левин - Советский век
- Название:Советский век
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Европа
- Год:2008
- ISBN:978-5-9739-0147-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Моше Левин - Советский век краткое содержание
О чем книга «Советский век»? (Вызывающее название, на Западе Левину за него досталось.) Это книга о советской школе политики. О советском типе властвования, возникшем спонтанно (взятием лидерской ответственности за гибнущую страну) - и сумевшем закрепиться в истории, но дорогой ценой.
Это практикум советской политики в ее реальном - историческом - контексте. Ленин, Косыгин или Андропов актуальны для историка как действующие политики - то удачливые, то нет, - что делает разбор их композиций актуальной для современника политучебой.
Моше Левин начинает процесс реабилитации советского феномена - не в качестве цели, а в роли культурного навыка. Помимо прочего - политической библиотеки великих решений и прецедентов на будущее..
Советский век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отчеты об избирательных кампаниях в профсоюзах и других организациях свидетельствовали о росте пассивности даже в среде рабочих-коммунистов. Однажды на одном из совещаний беспартийные рабочие решили покинуть зал и, когда их стали останавливать, заявили: «Почему не даете нам уйти, если члены партии ушли первыми?» В отчетах ГПУ имели место и антисемитские изречения членов партии из рабочей среды. Эти высказывания звучат знакомо: «Вся власть в руках евреев», «Жиды во власти и угнетают рабочих», «Среди жидов нет честных людей», «Мне не терпится идти громить это ненавистное племя».
Однако надо с осторожностью подходить к этим фрагментарным свидетельствам. Даже если такие случаи были достаточно частыми, отчеты ГПУ и информационного отдела ЦК партии не дают возможности определить истинный масштаб протеста. Встречаются документы, которые свидетельствуют, что партийцы редко отказывались исполнять постановления своих ячеек. Но это вовсе не означает, что они не сочувствовали бедам рабочих или не разделяли мнений, открыто выражаемых только явным меньшинством. Их опасения открыто выказать солидарность с теми, кто был готов к активным формам протеста, откровенно враждебного власти, не редко бывало вызвано страхом перед дисциплинарными партийными взысканиями, которые могли привести к потере работы. Ныне также стало известно, что рядовые члены партии, подобно прочим служащим любого завода, находились под надзором стукачей (неоплачиваемых информаторов) и тайных агентов.
Проанализированные нами материалы свидетельствуют, что требования «демократизации» в производственной и партийной жизни рабочей среды были широко популярными. Однако задачей режима было движение в противоположном направлении. И это вызывало неоднозначную реакцию даже среди аппаратчиков, подчас позволявших себе не соглашаться с политическими решениями высшего руководства.
Проблема была не только в критических настроениях внутри этого слоя. Облеченные доверием старые большевики и идеалистически настроенные неофиты тоже заявляли о глубоком разочаровании и отвращении к своей работе, не желали далее служить партийным ортодоксам, их экстремистским лозунгам и необдуманным планам.
Некоторые аппаратчики, лишенные карьерных амбиций, ощущали себя винтиками партийной машины, в которой их личные способности и политические перспективы вместе с будущей судьбой страны оказались утопленными в «бюрократической вермишели» (термин, возникший в XIX веке в среде итальянских революционеров и взятый на вооружение ветеранами русской революции). Мы уже цитировали выдержки из соответствующих документов. Но большинство негативных высказываний в отношении системы и прямые обвинения в ее адрес передавались из уст в уста или ходили по рукам в виде анонимок.
По сравнению с режимом 1920-х гг. режим тридцатых овладел более впечатляющими и разнообразными инструментами для оказания давления на инакомыслящих, включая членов партии. Среди инструментов воздействия на первом месте оказались Уголовный кодекс и «тайная полиция». Последняя превратилась в феноменальную организацию, которая переросла свои первоначальные рамки и фактически превратила партию в свой придаток, несмотря на то, что Сталин, скорее всего, не ставил перед собой подобной задачи, а в 1940-е даже придумывал радикальные проекты перераспределения властных полномочий. Полагаю, что вопрос - встал ли Сталин на этот путь в 1933 г. или раньше - можно считать второстепенным. Важно, что задачи репрессивных органов, их модернизация, соответствующий идеологический лексикон, оправдывающий массовые репрессии, были обусловлены вступлением страны в полномасштабную индустриализацию и коллективизацию и то, что они сделали неизбежным окончательное выхолащивание партии: отныне, лишенная революционного духа, она превратилась в удобный для власти инструмент.
С этого времени категория «контрреволюционные преступления» приобрела в Уголовном кодексе иное толкование, нежели в эпоху революции. Один из сотрудников Главной военной прокуратуры В.А. Викторов, проявивший чрезвычайную активность при реабилитации жертв сталинских политических репрессий, начатой Никитой Хрущевым, критически описывал террористические тенденции и практики «сталинизма». Одной из первых он подчеркнул негативную роль «поправок», введенных «с далеко идущими последствиями» в Уголовный кодекс страны в 1926 г., несмотря на энергичный протест «в самых разных кругах» [31] 31 Викторов В.А. Без грифа «секретно»: Записки военного прокурора. - М., 1990. С. 95-116.
.
Первоначально новая статья УК, касавшаяся «контрреволюционных преступлений», предусматривала, что карательные меры осуществляются лишь при наличии неопровержимых доказательств « намерения , сопровождаемого действием ». Однако нечеткие формулировки самого Уголовного кодекса в сочетании с ловкими манипуляциями сталинского ГПУ способствовали манипулированию законом - аресты и допросы нередко проходили без санкций прокуроров, призванных следить за соблюдением законности. Поправки, внесенные в Уголовный кодекс, а также новые права, предоставленные ГПУ правительством, давали возможность преследовать и наказывать людей без наличия ясных доказательств их вины - то есть без «преступника», на самом деле совершившего преступление. Следствие больше не должно было заниматься поисками доказательств «намерений, сопровождающихся действием».
Анализ, произведенный Викторовым, показывал, что именно это и открыло путь для «законности» массовых репрессий 1930-х гг., когда единственным востребованным доказательством стало само обвинение. Сколь бы странно это ни звучало, но виновность априори признавалась до вынесения вердикта.
Комбинация этого псевдозаконного манипулирования Кодексом и «синдрома ереси» привела к сюрреалистической ситуации, когда потенциально виновными оказались все граждане, которые в любой момент, произвольно, могли подвергнуться репрессии. Парадоксально, но этот юридический абсурд, облаченный в туманную терминологию, в скором времени оказался орудием борьбы не только с противниками режима, но и с самой партией, именем которой, как предполагалось, проводились операции «чистки». Члены партии и большой контингент ее бывших членов стали мишенью «охоты за ведьмами» именно тогда, когда никакой серьезной оппозиции Сталину не наблюдалось - если не принимать за оппозицию тех, кто по собственной воле покинул партийные ряды, или жалобы и критику, исходившие от партийцев разного ранга.
По мере того как положение Сталина на вершине власти становилось более крепким, категория «контрреволюционных преступлений» становилась все более неопределенной. Это касалось как УК, так и практики. Органы безопасности старались выйти из-под контроля закона и юридических властей и расширяли спектр деспотии и карательных мер. Настоящая машина террора была создана и в любой момент могла обрушиться на каждого. Членство в партии вне зависимо сти от стажа не приносило желаемого результата и становилось опасным. У Сталина были свои счеты со многими членами партии, в том числе и с теми, кто помогал Сталину выковывать инструменты его могущества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: