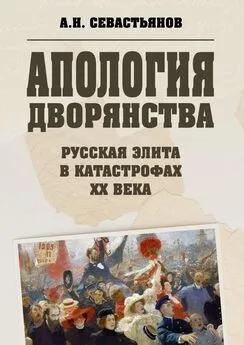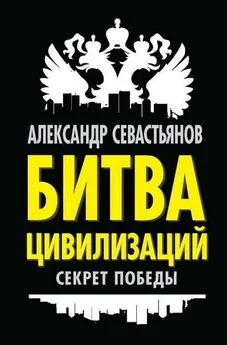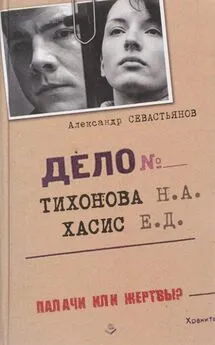Александр Севастьянов - Апология дворянства
- Название:Апология дворянства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005557599
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Севастьянов - Апология дворянства краткое содержание
Апология дворянства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Старообрядцы упрекали никониан в искажении древних канонов иконописи, в новой эстетике храмового убранства, которую они относили к влиянию «латинства». Это было ошибочное мнение, продиктованное лютой вероисповедной враждой и отчаянием побежденных. Парадоксально, но именно новая эстетика ярославской, костромской иконописи и архитектуры, мастеров Оружейной палаты, московских керамистов, архитекторов Ново-Иерусалимского монастыря, «нарышкинского» барокко и пр. и была как раз выражением русского начала, именно она и составила истинно «золотой век» русского искусства, подлинно русский стиль, уже свободный от византийского диктата и еще свободный от западного. Ей бы, кажется, и оформлять сугубо национальное русское православие, каким являлось старообрядчество! Но – не случилось…
XVII век – время оживленных контактов национального русского государства со всем миром, которые не обходились без определенной культурной диффузии. Но никакой «вины» царей и дворянства в том нет. Вестернизация порой затрагивала и низы общества. Один поразительный пример отыскал в архивных документах допетровской Руси исследователь Д. Н. Альшиц, обнаруживший, что в Ошляпецкой волости Яренского уезда в Сибири проживал посадский человек Кузьма Силыч Щелкалов, купец и ростовщик, выросший из простых крестьян. Немало поездив по Зауралью, он жил в родном Яренске и удивлял сограждан своим «немецким видом»: дорогим коротким камзолом и штанами за 80 копеек, сменными шляпами (три штуки по 20 копеек каждая), рублевой тростью и заграничной зрительной трубою в руках неизменно, а шею повязывал немецкими «хальстухами», коих имел 5 штук по 12 копеек каждый 120 120 Альшиц Д. Н. От легенд к фактам. Разыскания и исследования новых источников по истории допетровской Руси. – СПб., 2009. – С. 433—434.
. Что выразилось, в самом деле, в этом феномене: «мужицкая кичливость» и «нелепое чванство», по Буссову, или искренняя тяга к «хорошей, правильно устроенной жизни»? Думаю, есть основания предполагать и то, и другое. Если полистать любое серьезное собрание русского лубка, можно увидеть, что влияние западной моды и бытового инвентаря распространялось и на народные массы.
Сергеев пишет, что дворяне-де «хотели не только социально, но и этнокультурно оторваться от „черни“». И что в этом смысле «Петр I пришел на хорошо унавоженную почву».
Это совершенно не так. Допетровское и петровское дворянство было едва ли не самым необразованным и малокультурным слоем Руси (если не считать очень узкой прослойки высшей знати). Гораздо менее вестернизированным, чем, скажем, купечество. И вообще, резкий культурный отрыв правящего класса дворян от народа произошел лишь при позднем Петре, причем совершенно насильственно, по воле монарха. А подспудно едва ли не главным фактором культурной революции – был новый алфавит, новая азбука, переход с кириллической на гражданскую печать и вытеснение рукописной книги – книгой печатной. Но дворянство до Екатерины Второй не имело к этому отношения. А среди десятков литераторов начала XVIII века наблюдается лишь один дворянин, да и то не русский, а заезжий молдавский князь Антиох Кантемир.
Однако указанная культурная революция в целом не коснулась религии русского народа, которая, пройдя через жестокую реформу веком ранее, оставалась более-менее общей для всех его классов и сословий как во времена Петра Первого, так и перед Октябрьской революцией, да и сейчас остается.
Русский быт русских дворян
Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расчеты, брила лбы,
Ходила в баню по субботам…
Тезис о том, что дворяне культивировали в быту все возможные отличия от народной жизни с целью возведения «этноклассового» барьера, красной нитью проходит через рассуждения Соловья и Сергеева.
Но так ли это было на самом деле?
Обратимся вновь ко второй половине XVIII века – к цветущему периоду «дворянской империи», когда именно дворянство как никогда властно распоряжалось и своей судьбой, и судьбой государства. И беспрепятственно, в полную меру проводило в повседневную жизнь, в быт те нормы морали, эстетики, социальной психологии, которые были ему имманентно присущи. Обратимся к этому времени, потому что впоследствии социальное положение разных классов и страт уже никогда не будет столь контрастным, ярко выраженным, а к концу XIX века быт дворянства уже и вовсе в массе своей будет мало чем отличаться от быта прочих образованных и более-менее обеспеченных, хотя и не богатых слоев городского населения, живущих службой и разными видами умственного труда.
Здесь нам неоценимую услугу окажет вышеупомянутая книга О. И. Елисеевой. Для любознательного читателя я сохраняю в тексте ее ссылки на весьма полно и интересно подобранную литературу, а ссылки на страницы самой книги привожу в скобках в конце цитаты 121 121 Усиленно рекомендую также раздел «Культура застолья пушкинской поры» из книги Е. В. Лаврентьевой «Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет» (М., Молодая гвардия, 2007). Я мог бы почерпнуть оттуда еще массу убедительных примеров, но не стал этого делать, дабы не перегружать текст.
.
Итак – быт… Что ели-пили, как развлекались, как одевались, на чем ездили…
* * *
Стол.На картинах художников XIX века, в мемуарах современников и бытовых зарисовках писателей можно найти массу свидетельств того, насколько традиционными были вкусы русских людей всех сословий, всегда предпочитавших именно русскую кухню, русскую народную еду. Даже в дневниковых записях наследника цесаревича Николая (будущего последнего царя), которые он вел, направляясь на пароходе с визитом в Японию, мы встречаем дифирамбы русской кухне как самой здоровой и вкусной! Исключительно русскую кухню предпочитал и его отец, великий государь Александр Третий, определившийся в этом отношении на всю жизнь еще с Русско-турецких войн. Сохранились многочисленные меню дворцовых торжественных званых обедов, где мы встречаем не столько утонченные ухищрения французской кулинарии, а по большей части уху с расстегаями, щи, дичь с моченой брусникой, валованы с икрой, рыбу по-русски, бульон с пирожками, гурьевскую кашу и т. п. На картинах Павла Федотова и других бытописателей мы различаем кулебяки, паюсную икру, семгу, ветчину, грибочки, калачи, а на поминальных трапезах – кутью, блины и кисель… На Пасху разговлялись крашеными яйцами, пасхой, куличами, ветчиной – равно дворяне и недворяне. Вспоминается и поросенок с хреном, со сметаною, любимый Чичиковым, и разварной осетр, втихую подъеденный Собакевичем. В ушах всегда готовы прозвучать и сладко отозваться в мечтах бессмертные державинские строки: «Багряна ветчина, зелены щи с желтком, Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, Как смоль-янтарь икра, и с голубым пером Там щука пестрая – прекрасны!». Украинское дворянство любило галушки, вареники, свинину во всех видах, гусей. Чеховский чиновник мечтает о запеченой с яблоками утке, «хватившей первого ледку». А Гиляровский описывает подававшийся в трактире у Тестова блинный пирог, в низу которого, на «первом этаже» начинкой служили телячьи мозги, в верху (на двенадцатом, если правильно помню) – налимьи печенки, а уж что располагалось между ними, того всего и упомнить невозможно! И т. д. и т. п. Начать цитировать – не остановишься.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: