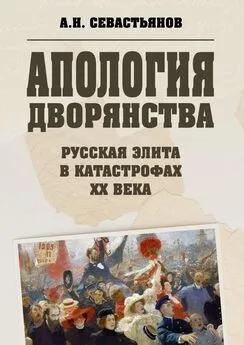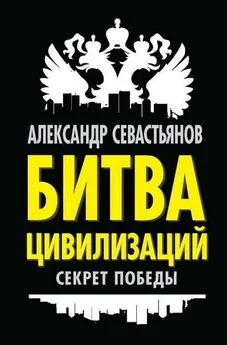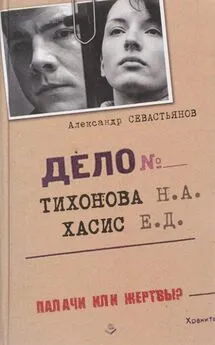Александр Севастьянов - Апология дворянства
- Название:Апология дворянства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005557599
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Севастьянов - Апология дворянства краткое содержание
Апология дворянства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, спросим себя по совести: был ли русский язык XVII века, язык даже петровской, аннинской эпохи, язык народный в своей основе, столь же изощрен и готов к выражению всего этого? Едва ли, во всяком случае – еще не вполне. Он сильно утончился при Екатерине, но окончательно обтесался и заострился уже в XIX веке.
Можно допустить поэтому, что на короткое время сосуществование двух языков в одном русском народе сыграло роль социолектов. Но это явление оказалось временным и далеко не всеобщим, и уже к середине XIX века мода на иностранный прошла, а мода на хороший русский – пришла, благодаря великой русской литературе. Созданной, что уже подчеркивалось выше, никем иным, как русскими дворянами.
Кстати, смешение «французского с нижегородским» говорит не только о засилии французского, но и о реванше нижегородского. То есть, русский язык уже к 1830-м годам вполне оправился в дворянской среде и начал контрнаступление. О чем свидетельствует, к примеру, памятник эпохи:
«Не подражай также сей общей ныне моде, чтобы в одном разговоре мешать два языка. Когда уже, по несчастию, французский вошел у нас в такое употребление, что во многих обществах лучше понимают его, нежели свой отечественный, то говори по-французски только с теми особами, которые удивляются, когда русская говорит по-русски, а там, где ты смело можешь говорить на природном твоем языке, не вмешивай иностранных слов: таким образом все будут понимать тебя, и ты не сделаешься рабою сего смешного обычая» 114 114 Память доброй матери, или Последние ея советы дочери своей. Сочинение Г-жи Таньской. – СПб., 1827. – С. 43—44.
.
А потому, напомню паки и паки: «что касается русской разговорной речи дворянства, она в целом сохраняла в начале XIX века свою близость к «простонародной» стихии. Приведем свидетельство И. Аксакова, относящееся к началу прошлого столетия: «Одновременно с чистейшим французским жаргоном… из одних и тех же уст можно было услышать живую, почти простонародную, идиоматическую речь…«» 115 115 Лаврентьева Е. В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет. – М., Молодая гвардия, 2007. – С. 214.
.
Отметим немаловажную деталь: петербургский высший свет имел свою специфику, не распространявшуюся на прочее дворянство. Елисеева приводит яркий пример, не позволяющий абсолютизировать проблему так, как это делают Соловей и Сергеев. Когда Е. Р. Воронцова-Дашкова, аристократка, выросшая в Петербурге, приехала в Москву, она поначалу не могла общаться с родными мужа: «Я довольно плохо изъяснялась по-русски, а моя свекровь не знала ни одного иностранного языка. Ее родня… относилась ко мне очень снисходительно; …но я все-таки чувствовала, что они желали бы видеть во мне москвичку и считали меня почти чужестранкой. Я решила заняться русским языком и вскоре сделала большие успехи, вызвавшие единодушное одобрение» 116 116 Елисеева ссылается на: Дашкова Е. Р. Записки. 1743—1810. – Л., 1985. – С. 10.
. Эти успехи привели ее в кресло президента Российской Академии.
Из мемуара Дашковой видно, что ситуация в Петербурге, с одной стороны, и в Москве – с другой (а уж что говорить о прочих российских городах) сильно отличались друг от друга. Елисеева видит причину этого в том, что императрица Елизавета Петровна «любила французский, из-за чего вся знать изъяснялась на галльский манер и даже не заботилась обучить детей родной речи». Но так или иначе, данный пример предостерегает нас от излишнего увлечения темой дворянской галломании. Петербург никогда не был вполне русским городом, и брать его за образец, судить по нему о России в целом по меньшей мере неосторожно.
Подчеркну, что дворянство несло свою службу, военную и административную, повсеместно, а не только в столице среди лиц своего круга. И несло ее как до, так и после Манифеста о вольности дворянской. На каком языке, хотелось бы спросить Соловья и Сергеева, офицеры общались с солдатами, администраторы с чиновниками, городовыми и с народом? Уж не по-французски, это точно.
Но есть у проблемы культурного разрыва и другая сторона. Она состоит в том, что народная культура неуклонно повышалась. Образовательные реформы с 1860-х заметно уменьшали культурный разрыв: к 1914 году в технических вузах 56% учащихся составляли бывшие крестьяне, а школьная система охватила примерно треть населения.
Сергеев задает мне вопрос, который считает риторическим: уж не полагаю ли я, «что неграмотные мужики считали Пушкина и Толстого своей национальной культурой»?
Этот вопрос не так прост, как кажется. Это сегодня, в наши дни Толстого и Пушкина не читают как раз вполне грамотные мужики и бабы. А вот до революции, как ни ограничено было число грамотных людей (однако, если треть населения, то значит и мужики), именно Толстого-то и Пушкина они читали, на них воспитывались, считали своей национальной культурой. Хорошо известно, например, о гигантских тиражах просветительского издательства «Посредник» (1884—1935), основанного Львом Толстым и пропагандировавшего, в первую очередь, идеи Толстого. В 1897—1925 издательством руководил И. И. Горбунов-Посадов, издававший во множестве доступную по цене для простого народа художественную и нравоучительную литературу, особенно детскую, книги по сельскому хозяйству, домоводству, журналы «Маяк», «Свободное воспитание» и др. И таких издательств для народа было немало (взять того же И. Д. Сытина, А. С. Суворина или издательскую деятельность Союза русского народа и подобных организаций), выпускавших разного рода «книжки-копейки». Все они были исполнены истинно русского духа, взращивали его. Сказки Пушкина и Толстого, басни Крылова, стихи Некрасова, выходившие массовыми тиражами, много тому способствовали. Может быть, до совсем уж глухих углов, до совсем уж безграмотных людей эти издания и не доходили, но то, что они были массовыми и расходились глубоко в толще народной – это факт.
Культурный разрыв между российскими классами со второй половины XIX века вовсе не увеличивался, как уверяют нас Соловей и Сергеев, а наоборот, сокращался. Дворянство, даже успевшее европеизироваться, стремительно и массово обрусевало, чему отчасти способствовало его обнищание и растворение в других сословиях после 1861 года. А народные массы начинали широко приобщаться к культуре, выработанной высшими классами.
Нельзя не заметить в данной связи, что в наши-то дни, увы, самая бешеная англомания, никем и ничем не сдерживаемая, действительно очень опасная, губительная для русского языка, исходит как раз от простонародья, которому «впаривают» легче всего те товары, на которых есть фирменные «лейблы», которое предпочитает магазины, конторы и кабаки с «иностранными» названиями, которое втыкает себе в безмозглые бошки англоязычные плееры и трясется под завывания даже не англичан, а блеющих на пиджин-инглиш ниггеров! И щеголяет когда надо и не надо иностранными словечками, англицизмами (впрочем, это обезьянничанье весьма, увы, свойственно и некоторым лицам нашего круга, даже ученым; только словечки помудренее). От кого же это, по логике Соловья и Сергеева, это простонародье хочет культурно отгородиться? От самого себя? От своих родителей?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: