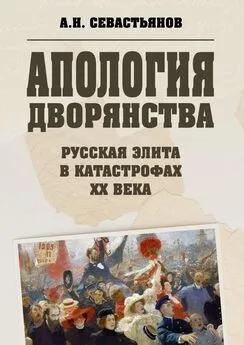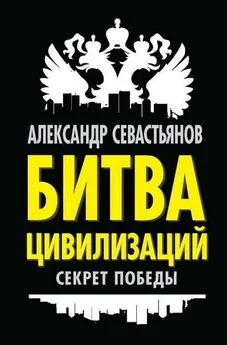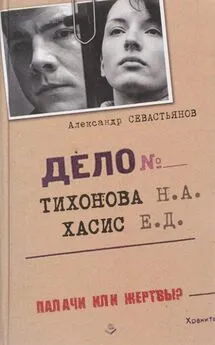Александр Севастьянов - Апология дворянства
- Название:Апология дворянства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005557599
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Севастьянов - Апология дворянства краткое содержание
Апология дворянства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Впрочем, конечно же, русская нянька – фактор, который нельзя недооценивать. «Няньки, приставленные к детям, порой оказывали на них большее влияние, чем родители, особенно в раннем возрасте, когда ребенок всецело находился на руках кормилицы. От них барчата перенимали не только простонародную манеру поведения, которая впоследствии изглаживалась. Куда хуже было то, что вместе с фольклорным пластом культуры усваивались страхи и суеверия, избавиться от которых не удавалось всю жизнь» (Елисеева, 344). Как пишет Ю. М. Лотман в «Комментариях» в пушкинскому роману в стихах, «Филиппьевна (няня Татьяны) и Арина Родионовна не были исключениями. Ср., например: „Авдотья Назаровна была крепостная девушка моей бабушки Есиповой, товарищ детства моей матери, которой она была дана в приданое. <���…> Нянька моя была женщина очень неглупая, но, прежде всего, добрая и любящая, честная и совершенно бескорыстная. Она ходила за мной шесть лет, а потом нянчила еще брата и четырех сестер“» 107 107 Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. – Л., Просвещение, 1980. – С. 217.
. Понятно, что дворянчики, выросшие в таких руках, не могли не знать, не чувствовать живой русский язык во всех нюансах.
А вот еще интересный пример. В начале XIX века в Россию по приглашению известного меломана, богатого помещика и генерал-майора Г. И. Бибикова из Франции прибыл балетмейстер Йогель, именуемый у нас Петром Андреевичем (1768—1855). Устроив своему пригласителю балет в усадьбе, он затем купил дом в Москве и открыл школу танцев для дворянских детей. (Кстати, именно на бале у Йогеля Пушкин впервые встретил и полюбил Наталью Гончарову.) Вот что пишет о нем в своих воспоминаниях балетмейстер императорских театров Адам Глушковский: «К достойным особенного внимания старинным учителям бальных танцев в Москве принадлежит Йогель, который в своей молодости получил отличное воспитание: он изучил русский, французский языки и музыку как нельзя лучше, о бальных танцах нечего и говорить; кто в Москве не знает об его таланте? Сквозь его руки прошли три поколения! С искусством Йогель соединяет неоценимые достоинства общежития. Он находчив, остер, всегда весел и любезен» 108 108 Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера. – М.; Краснодар; СПб., 2010. – С. 418.
. Прошу обратить внимание: эти свои достоинства Йогель проявлял на русском языке, который специально затем и выучил «как нельзя лучше». А для чего? Конечно, для того, чтобы нормально общаться с учениками и их родителями. Но разве мало было для этого знать французский, если засилие оного было так ужасно, как это вообразили для нас Соловей и Сергеев? Видимо, мало, коли танцмейстер, лицо, зависимое от расположения клиентов, дал себе такой нелегкий труд, как изучение русского языка.
Или взять того же поляка Фаддея Булгарина: что бы ему не писать по-французски для образованной-то публики, тем более, что сам был некогда капитаном наполеоновской армии и кавалером Почетного легиона? Нет, пришлось учить русский.
Наконец, не для простого же народа, «гордого внука славян», в основном тогда неграмотного, писал и сам Пушкин, потомок шестисотлетнего дворянского рода! И каким русским языком!
Оставим же в покое «поврежденный класс полуевропейцев», сиречь высший свет. По этому верхушечному явлению о русском дворянстве судить никак нельзя. (Кстати, источник Сергеева, историк Н. Ф. Дубровин, работавший во 2-й пол. XIX века, сам свидетельствовать о высшем свете никак не мог за своей туда невступностью, а просто повторил чье-то расхожее мнение.) Что же касается дворянских масс, то их «языковая испорченность» была, конечно, минимальной и выражалась в самом худшем случае в «смеси французского с нижегородским» (Грибоедов). Как это выглядело? «Пуркуа ву туше? Я не могу дормир в потемках», – лепечет такой дворянчик, с испугу путаясь в словах (Пушкин, «Дубровский»). В нормальных условиях он, конечно же, говорил на отличном народном русском языке. Нижегородский доминировал.
О дворянстве вообще нельзя судить поверхностно, по отрывочным свидетельствам о космополитическом придворном круге эпохи Александра или Николая Первого и позднейших времен. Это не показатель.
Кстати, о Николае Первом: уж его-то никак нельзя обвинять в космополитизме. Император прекрасно владел русским и, между прочим, виртуозно использовал нецензурную брань; он не злоупотреблял иностранными языками и требовал того же от подданных. Ведь недаром считалось: «Говорить должно на том языке, на котором заговорят высочайшие особы» 109 109 Жизнь в свете, дома и при дворе. – Спб., 1890. – с. 134
. Воспоминания Полины Анненковой, жены декабриста, дают яркий тому пример: когда на допросе у царя член Северного общества Никита Муравьев обратился к нему по-французски, молодой император вспылил: «Когда ваш государь говорит с вами по-русски, вы не должны сметь говорить на другом языке».
Столь приниципиальное отношение к родной речи передавалось в обществе сверху вниз: к графу А. И. Остерману-Толстому однажды явился «по службе молодой офицер. Граф спросил его о чем-то по-русски. Тот отвечал на французском языке. Граф вспылил и начал выговаривать ему довольно жестко, как смеет забываться он перед старшим и отвечать ему по-французски, когда начальник обращается к нему с русскою речью. Запуганный юноша смущается, извиняется, но не преклоняет графа на милость» 110 110 Вяземский П. А. ПСС в 12 тт. – СПб., 1883. – Т. 8, с. 301.
.
Возражая мне на некоторые критические замечания (нашу полемику опубликовал в 2010 г. сайт АПН), Сергеев написал: «Незнание русского языка „образованным обществом“ – одна из самых обсуждаемых тем в русской публицистике конца 18 – первой половины 19 в. Уж коли вспоминать Грибоедова, то вспомним и это: „Воскреснем ли когда от чужевластья мод? / Чтоб умный, бодрый наш народ / Хотя по языку нас не считал за немцев“. Для меня большая проблема работать с эпистолярными источниками этой эпохи – слишком много французского, которого я „не разумею“, иногда целые эпистолярные комплексы написаны на нем. Это говорит о том, что французский воспринимался как язык образованных людей, а русский как „низкий“, простонародный».
Что по данному поводу выразить, помимо сочувствия историку? (Надеюсь, не эти личные трудности настроили его против былой дворянской франкофонии.) Можно, конечно, и Толстого вспомнить, в романах которого огромные фрагменты писаны по-французски. Но ведь это не от незнания Толстым русского языка или нелюбви к нему! Более того: у нас были писатели и поэты с той или иной долей нерусской крови (Дельвиг, Кюхельбекер и др.). Но русский язык, на котором они писали, был создан не ими. Его создал русский народ. Вот потому-то, в силу причастности своей к этому творению русского народа, и писатели эти называются русскими, и вся наша литература – русской.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: