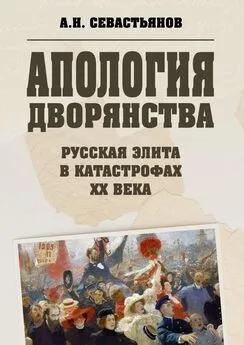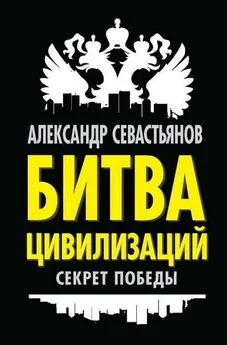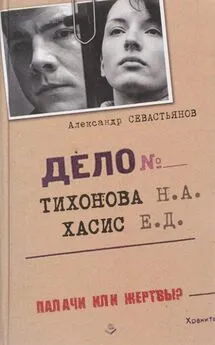Александр Севастьянов - Апология дворянства
- Название:Апология дворянства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005557599
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Севастьянов - Апология дворянства краткое содержание
Апология дворянства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если бы русские образованные люди писали только по-французски, аргумент Сергеева можно было бы принять. Но и Пушкин, и Вяземский, Катенин, Языков, Баратынский и множество людей их круга постоянно вели переписку по-русски, пользуясь другими языками при необходимости. Это было щегольство своего рода, гимнастика для ума, вполне понятные и объяснимые: знание 4—5 языков у столичной и московской дворянской молодежи обоего пола уже во времена Екатерины Второй не было редкостью, в отличие от нашего времени 111 111 Ср.: «В Петербурге можно встретить девушек, с равной легкостью изъясняющихся по-французски, по-немецки, по-английски и по-русски, и я мог бы назвать и таких, которые пишут на этих четырех языках слогом редкой верности и изящества» (Ансело Ф. Шесть месяцев в России. – М., 2001. – С. 48—49). Бывали, впрочем, обратные примеры вовсе ретроградного «патриотизма», граничащего с дикостью: «Прадед не допускал и мысли о воспитании детей, – писала Сабанеева об А. И. Прончищеве. – В те времена чада должны были удерживаться в черном теле в доме родителей, и он за порок считал, чтоб русские дворянки, его дочери, учились иностранным языкам. „Мои дочери не пойдут в гувернантки, – говорил Алексей Ионович. – Они не бесприданницы; придет время, повезу их в Москву, найдутся женихи для них“» (Елисеева О. И., 349).
. Об этом приходится напоминать.
Возьмем в соображение и такой аргумент в отношении русской дворянской франкофонии. В ходе обретения суверенитета Чехией, Венгрией, Финляндией, Украиной и т. д. национальные элиты играли в этом первостепенную роль, были подлинным локомотивом процесса. Обеспечивали его политически, юридически и культурно. Национальный суверенитет был высокой целью их жизни и деятельности. Однако при этом всем им приходилось переучиваться и переходить с латыни и немецкого – на венгерский и чешский, со шведского – на финский, с русского – на украинский и т.д., потому что в составе империй они были вынуждены говорить на официальном имперском языке. Можем ли мы за это бросить названным национальным элитам упрек в былой денационализации, в отрыве от своих наций, предательстве или забвении национальных интересов? Конечно, нет. Нелепо и предположить такое.
А вот русские были суверенны и не входили в состав каких-либо мировых империй, кроме своей собственной (и уж во всяком случае – во Французскую, и революцией униженную, и нами битую). Никто и никогда не ставил перед ними задачу языковой эмансипации как часть более важной задачи – эмансипации политической. Мы не зависели в своем суверенитете от каких-либо европейских наций, ни одна из них не имела власти принудить нас говорить на ее языке. Изучение языков для нас, русских, было не вынужденным, а добровольным и диктовалось не политической, а исключительно культурной необходимостью.
Это позволяет высоко оценить избрание русскими дворянами именно французского языка в качестве путеводителя по мировой культуре своего времени. Это был верный выбор, чтобы не остаться на обочине культурного мира. Ибо Франция – это бесспорно – со времен Людовика XIV по заслугам была признанным культурным лидером всей европеоидной ойкумены, и петровская традиция культурной солидарности с белым миром требовала от русских – хотя бы в лице передового класса дворян – быть на этой высоте.
Таково еще одно проявление сознательно взятой дворянами на себя роли культурного локомотива всей страны, за что им бы спасибо сказать не мешало. Возможно, лучше было бы учить французский язык всем народом, но будем реалистами…
При этом сам тот факт, что увлечение германизмами (с Петра) и галлицизмами (с Елизаветы) постоянно служило излюбленной мишенью всех русских дворянских (!) сатириков, больших и малых, говорит как раз-таки о том, что русский язык в дворянской среде был отлично себе жив-здоров и мощно сопротивлялся отдельным попыткам его замусорить.
Но оставим в стороне борьбу русских дворян с русской дворянской галломанией. Попробуем, коль скоро мы ведем разговор начистоту, взглянуть на корень самой проблемы.
Да, мы часто встречаем сетования представителей даже высшего света или высоких литературных кругов на пренебрежение русским языком и увлечение всем иностранным, особенно французским. Отмечали эту особенность и иностранцы в России, кто с восхищением (француженка художница Виже-Лебрён), кто с досадой (ирландки сестры Вильмот, приживалки Дашковой). Дыма без огня не бывает, проблема такая, конечно, была.
Однако верно пишет по данному поводу О. И. Елисеева: «Россия приступила к модернизации, оставив за спиной особый цивилизационный путь Московского царства, использование культурных кодов которого в новых условиях не давало нужного эффекта. Сокровища старой традиции более чем на век оказались запечатанными и невостребованными… Большинству дворян подчас было трудно выразить чувства и мысли, так гладко звучавшие на языке Мольера, языком протопопа Аввакума. Да и сами эти размышления были совсем иного свойства, чем принятые в старой словесности» 112 112 Елисеева О. И. Там же. Рекомендую по теме книгу Ю. Тынянова «Архаисты и новаторы». А пока напомню слова Пушкина из «Евгения Онегина», оправдывающие употребление иностранных слов: «Но панталоны, фрак, жилет – Всех этих слов на русском нет!»; «…Она казалась верный снимок Du comme il faut (Шишков, прости – Не знаю, как перевести)».
.
Верно же указывает и Е. В. Лаврентьева:
«Русское дворянство было не удовлетворено состоянием русского разговорного языка, которому не хватало выразительных средств, чтобы придать разговору легкость и «приятность». Неудовлетворенность эта и явилась одной из причин засилья как в письменном, так и в устном обиходе французского языка. Чем же объяснялась притягательная сила французского языка?
Ответ на этот вопрос находим в «Старой записной книжке» П. А. Вяземского: «Толковали о несчастной привычке русского общества говорить по-французски. «Что же тут удивительного? – заметил кто-то. – Какому же артисту не будет приятнее играть на усовершенствованном инструменте, хотя и заграничного привоза, чем на своем домашнем, старого рукоделья?». Французский язык обработан веками для устного и письменного употребления… Недаром французы слывут говорунами: им и дар слова, и книги в руки. Французы преимущественно народ разговорчивый. Язык их преимущественно язык разговорный…«» 113 113 Лаврентьева Е. В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет. – М., Молодая гвардия, 2007. – С. 214.
.
Хорошо по данному поводу высказалась одна польская графиня в адрес самого Вяземского: «Легкая шутливость, искрящееся остроумие, быстрая смена противоположных предметов в разговоре, – одним словом, французский esprit так же свойственен знатным русским, как и французский язык».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: