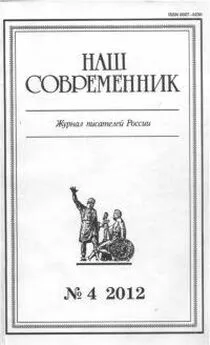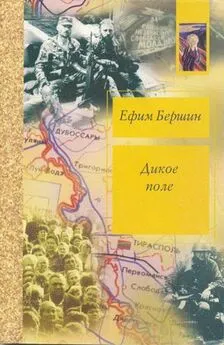Александр Тарасов - Вводно-обзорная лекция
- Название:Вводно-обзорная лекция
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Тарасов - Вводно-обзорная лекция краткое содержание
Лекция из цикла "Общественная мысль XX века: практически ценное для политического радикала наших дней", прочитанного в Свободном университете им. С. Курёхина в 1996-1997 годах.
Вводно-обзорная лекция - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дальше будет Ортега-и-Гассет. Ортега традиционно считается представителем консервативной общественной мысли, но нам он интересен двумя своими достижениями. Во-первых, он открыл, вскрыл, показал, охарактеризовал современного «массового человека». Фактически он описал того же современного западного обывателя, то есть то же явление, которое Маркузе назвал «одномерным человеком». Маркузе это явление рассматривал с точки зрения психологической и политической – как социолог и психолог, а Ортега-и-Гассет рассматривал его с точки зрения эстетической, культурной. И именно по «массовой культуре», как сейчас бы сказали (а тогда еще не было такого термина), Ортега нанес своей критикой жесточайший удар: он показал, что «массовая культура» – это тупик, тупик не для человека вообще (что это тупик для человека вообще, показал Маркузе), а для культуры, для искусства, для художников. Если художник залезает в это болото, он перестает быть художником. Маркузе это как-то не интересовало, его заботили интересы общества и общественный прогресс, а не судьба отдельного художника, а Ортегу интересовало именно это, его, в частности, интересовали механизмы, которые в данном случае срабатывают, – и он нашел, что это механизмы нивелирования. Происходит нивелирование и снижение творческих потенций и у «массового человека», и у художника (то есть художник перестает быть художником). Если творческие потенции сведены все к одному – низкому – уровню, тогда получается, что творец, художник не отличается уже от не-творца, не-художника, а следовательно, он в традиционном европейском понимании нехудожник, нетворец, непредставитель искусства, он уже рядовой потребитель псевдоискусства, только на него наклеен особый ярлык, поэтому, образно говоря, он не сидит в зале, а находится на сцене. Но на самом деле это все видимость, он просто из одного кресла временно пересел в другое, завтра вернется назад. В современном буржуазном обществе этот якобы-художник и рядовой обыватель оказываются совершенно взаимозаменяемыми, поэтому, естественно, в их «искусстве» нет прорыва, нет движения вперед. А на кой черт тогда нужно искусство, если нет прорыва и движения вперед?
Дальше, думаю, будет Чарльз Райт Миллс. В двух важнейших ипостасях. Первая – как человек, сформулировавший понятие «властвующей элиты». До него все теории элит были, в основном, консервативны и исходили из того, что так и должно быть – существует «элита» и существует «толпа», и неважно, откуда взялась элита, – как сложилась, так и сложилась, так и должно быть. Она по природе своей – аристократия, либо по рождению, наследственно, либо по имущественному статусу, денежному; и якобы сам факт принадлежности к элите свидетельствует в пользу тех, кто к ней принадлежит: раз вошел в состав элиты, значит – человек необыкновенный, заслуживающий этого, прошедший тщательный отбор и т.п. Чарльз Райт Миллс показал, что существует такое явление, как «властвующая элита», и вхождение в эту элиту носит характер случайный, а принадлежность к элите вовсе не является свидетельством каких-то исключительных качеств, элита по своим качествам может быть даже хуже того общества, которым управляет, а самое главное – чем дальше, тем больше элита склонна отторгать от себя людей, которые пытаются извне в нее включиться. То есть в конце концов складывается следующая ситуация: если элита достаточно уверенно управляет обществом, она не нуждается в расширении, а если она не нуждается в расширении, развитие полностью блокируется, а это называется застой, как мы все помним.
Второе важнейшее достижение Райта Миллса – создание «социологии воображения». Он практически независимо от Адорно пришел к тем же точно выводам, а именно, что классическая социология – это не наука, а лженаука, потому что общественная наука должна изучать то, что есть, и указывать пути к изменению, а лженаука занимается оправданием того, что существует, не ставя перед собой никаких сверхзадач, в частности, задач по изменению и совершенствованию мира.
Далее, я думаю, будет лекция (или несколько лекций) по «новым левым» и контркультуре 60-х. Я думаю, по предшествующему лекционному циклу, по вашим вопросам и т.п. станет ясно, в какой степени нужен будет общий обзор этих феноменов, насколько подробно нужно будет рассказывать о коллективно выработанных канонах и специально о том, что себя оправдало, а что – нет (тоже, чтобы можно было сделать выводы и не повторять чужих ошибок, ну, например, сегодня любому дураку понятно, что наркотики и психомиметики не освобождают вас от "гнета буржуазной действительности", а, напротив, подчиняют ей – в лице наркобизнеса – и делают вас безопаснымидля Системы; и кто говорит обратное – тот по определению либо агент наркомафии, либо агент спецслужб, что кое-где одно и то же, и с таким человеком надо не дискутировать, а делать ему дырку между глаз).
А возможно, я сосредоточусь на определенных теоретиках «новой левой» и контркультуры – на Роззаке, в первую очередь, на Брауне, Слейтере, возможно, Гудмане… Тут тоже потребуется большое количество иллюстраций, хотя бы даже для того, чтобы показать, что оправдало себя, а что не оправдало, что показало свою жизнеспособность, что прокралось в «большой мир», в существующую систему, – и выгнать оттуда это уже не удается. Например, вы смотрите этот проклятый телевизор и видите, что там интервьюируют какого-то человека, а человек сидит в кожанке и свитере и что-то умное такое говорит… не важно даже, что он говорит, предположим, что он несет какую-то ахинею… Но дело в том, что если бы не было феномена контркультуры, этот человек в таком виде просто на TV не смог бы появиться, он обязан был появиться в пиджаке и галстуке, если этого нет, то этого человека как бы не существовало. Если он скажет: «А у меня нет галстука», – то его нет как специалиста и тем более нет как человека, который мог бы в качестве эксперта появился на экране телевизора, – так выглядела ситуация до эпохи контркультуры.
Возможно, отдельную лекцию придется посвятить так называемому поколению 68-го года – со специальным упором на Руди Дучке, Кон-Бендита, Тома Хайдена, Элриджа Кливера, Эбби Хоффмана… Я вижу по вашей реакции, здесь есть заинтересованные, я закончу эту лекцию, и мы с вами побеседуем. Может быть, по результатам этой беседы я и скорректирую корпус будущих лекций.
Потом будет, я думаю, Ноам Хомский (он же Чомски), выдающийся лингвист и параллельно с этим – представитель радикальной политической мысли. Ноам Чомски и его предвосхищение «нового мирового порядка» и критика «нового мирового порядка». Хомский интересен тем, что он довольно давно понял, что то, что сейчас называется «новым мировым порядком», неизбежно возникнет, и начал критиковать этот «порядок» еще до того, как тот появился. Хомский, следовательно, сделал за нас значительную часть нашей работы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: