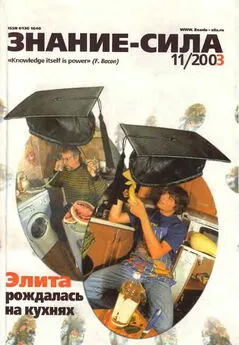Знание-сила, 2003 №11 (917)
- Название:Знание-сила, 2003 №11 (917)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2003
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Знание-сила, 2003 №11 (917) краткое содержание
Знание-сила, 2003 №11 (917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Борис Соколов
Трагедия царского офицерства
Я.Ю. Тинченко. Голгофа русского офицерства в СССР. 1930-1931 годы.
М.: Московский общественный научный фонд, 2000, 496с., ил.
Известный украинский историк и журналист Ярослав Тинченко (многие помнят его книгу «Белая гвардия Михаила Булгакова», изданную в Киеве в 1997 году) проделал огромную архивную работу и написал замечательное исследование, посвященное трагической судьбе русского офицерства.
Замечу, что в книге отразился интерес автора к литературным прототипам. Некоторые из персонажей книги имели интересную судьбу не только в жизни, но и в литературе. О прототипе булгаковского Хлудова Я.А. Слащеве Тинченко сообщает факты достаточно нелицеприятные. Как показали сослуживцы генерала, арестованные по делу «Весна», он отличался совершенно невероятным пьянством, на его квартире всегда можно было угоститься доброй чаркой водки, а гости и хозяева всегда напивались до такого состояния, что ни о каких «политических разговорах», на которых мечтали подловить генерала в ОГПУ, и речи быть не могло. Сперва у чекистов родилась мысль инкриминировать Слащеву умышленное спаивание молодых слушателей курсов «Выстрел», но затем от этой идеи отказались как от совсем уж фарсовой. В результате генерала, очевидно, решили убрать без ареста и суда, как лицо популярное, подослав к нему убийцу, некоего Б. Колленберга, будто бы мстившего за расстрелянного Слащевым брата. Потом его признали невменяемым и освободили от наказания (в наши дни ту же схему пытались осуществить с полковником Будановым).
Кстати сказать, жена Слащева вела драмкружок курсов «Выстрел», и на его спектаклях бывал Булгаков. Так что с прототипом главного героя «Бега» он скорее всего был лично знаком.
Тем же пороком, что и Слащев, — безудержным пьянством страдал и другой видный «возвращенец» — донской генерал Секретев, в эмиграции вступивший в просоветский Союз возвращения, в СССР преподававший на кавалерийских курсах ОГПУ и расстрелянный по делу «Весна». Он также стал героем литературного произведения — шолоховского «Тихого Дона», причем там он один из немногих белых генералов, кто показан неприглядно — в сильно пьяном виде. И, что любопытно, столь же негативно Шолохов отнесся в своем романе к другому деятелю просоветского Союза возвращения на родину — подъесаулу Шеину.
Главное же содержание книги — судьба тех представителей царского офицерства, кто остался в СССР или вернулся на родину из эмиграции. Тут названы сотни фамилий, прослежены судьбы многих жертв «Весны». Как доказывает автор, наиболее значимый для судьбы Красной армии погром командного состава произошел не в 1937-1938 годах, как принято думать, а в 1921-1931 годах, когда были вычищены почти все офицеры и генералы императорской армии.
Кульминацией этой чистки стало сфальсифицированное ОГПУ от начала и до конца дело «Весна», по которому в 1930-1931 годах были арестованы тысячи, а расстреляны — сотни бывших царских офицеров и генералов, в том числе служивших в РККА.
В результате «военачальники, репрессированные в 1937-1938 годах, были даже не на голову, а на две ниже своих немецких коллег. Во Вторую мировую войну немецкая армия вступила, имея в каждом батальоне по 5-6 офицеров, участвовавших в Первой мировой войне. Подавляющее большинство командиров дивизий Гитлера в 1917-1918 годах командовали полками, полковые командиры — батальонами, батальонные — ротами... А большинство репрессированных в 1937-м комбригов и часть комдивов даже не участвовали в Первой мировой войне!» Из 417 репрессированных тогда советских генералов (от комбрига до маршала) лишь 30 могли быть генералами немецкой армии, 46 — полковниками и 105 подполковниками. А уж из оставшихся и пришедших на смену генералами вермахта могли стать лишь единицы. В этом — одна из причин того, что Красная армия действовала в 1939-1945 годах крайне неудачно, и ее безвозвратные потери были почти в десять раз больше, чем у вермахта. Из прославленных военачальников Великой Отечественной лишь пятеро — Б.М. Шапошников, А.М. Василевский, А.И. Антонов, М.Г. Ефремов и Ф.И. Толбухин — были офицерами царской армии, а Л.А. Говоров и И.Х. Баграмян стали прапорщиками уже при Керенском.
В советской дивизии насчитывалось к 1941 году лишь четыре-пять офицеров Первой мировой войны — меньше, чем их было тогда в немецком батальоне. И Тинченко делает обоснованный вывод о том, что даже если бы не было репрессий 1937-1938 годов, соотношение сил вермахта и Красной армии принципиально не изменилось бы.
Возможно, Сталин потому и провел такую беспощадную чистку советских выдвиженцев, что не слишком ценил их в боевом отношении и считал несложным заменить их такими же выдвиженцами, но чуть помоложе, которых быстрый карьерный рост побудит воевать за большевиков не за страх, а за совесть. От царских офицеров избавился еще раньше, подозревая их в нелояльности в случае нового «похода на Запад».
Характерно, что массовые репрессии против офицеров и полное изгнание их из армии начались с 1925 года — момента смещения Троцкого с поста главы военного ведомства. Троцкий о походе на Запад в обозримом будущем не помышлял, а для обороны от возможной интервенции считал необходимым сохранять офицеров и генералов в штабах и академиях, равно как и во главе ряда дивизий и в штабах округов. Ведь тогда можно было положиться на их патриотизм. А вот попытка принести на штыках мировую революцию, о которой думал Сталин, их сочувствия бы не вызвала.
Если бы царские офицеры остались в РККА, появился бы шанс сократить тот громадный разрыв в уровне боевой подготовки по сравнению с вермахтом, который существовал вплоть до 1945 года. Однако шансов остаться на службе в конкретной обстановке 20-30-х годов у подавляющего большинства офицеров практически не было никаких. И именно тогда был сделан важный шаг по пути к той деградации нашей армии, которую мы видим сегодня. Недавно я наблюдал в метро замечательную картину На сиденье поезда сидели два абсолютно пьяных офицера — верные наследники Слащева и Секретева, и мирно спали. Один из них, в полковничьих погонах, держал фуражку на манер нищего на паперти. Его я даже как-то видел на какой-то презентации, знал, что он из Генштаба, запомнил его слова в первые недели второй чеченской кампании о российской армии, наконец-то поднявшейся с колен. Его товарищ был в штатском, но судя по футболке с надписью «Harvard University US-Russian Generals Executive Program», погоны носил, как минимум, полковничьи, если не генеральские. Этот второй держал в руке початую бутылку «Клинского», из которой пиво лилось на пол. Это был хороший символ современной российской армии, нередко напоминающей нищего на паперти, глушащей тоску по советской сверхдержаве в вине и сильно зависящей от совместных с Западом программ, дающих хоть какое-то финансирование. И офицеры в ней, понятно, соответствующие. А последних по-настоящему кадровых вывели в расход еще в начале 30-х.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: