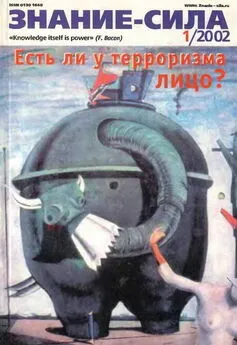Знание-сила, 2002 №01 (895)
- Название:Знание-сила, 2002 №01 (895)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2002
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Знание-сила, 2002 №01 (895) краткое содержание
Знание-сила, 2002 №01 (895) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
До революции в России все интеллигентные люди, тем более профессиональные ученые, знали иностранные языки – немецкий, французский, но знание английского считалось обязательным только для моряков. Поэтому Тимошенко (как и многие другие) попал в Америку «без языка» и вначале испытывал трудности. Как он их преодолел, можно судить по следующему эпизоду. В 1992 году я встретился в США с президентом Университета в Кларксоне, который тогда был признанным центром нелинейной математической физики. На банкете президент заявил мне, что он ученик Тимошенко и что таковыми считают себя большинство специалистов по прикладной теории упругости и строительной механике в США. Дело в том, что Тимошенко написал в эмиграции, уже по-английски, несколько фундаментальных учебников по своему предмету. Их, к счастью, потом переводили на русский язык и печатали у нас. Они и подняли уровень этой области в Америке на новую ступень. По ним до сих пор учатся американские (да и русские) студенты.
Степан Прокофьевич прожил долгую жизнь и умер в 1972 году в возрасте 94 лет. К этому времени он стал живой легендой и был, по крайней мере, известен в России. Этого нельзя сказать о нескольких других ученых, пользовавшихся в США и в мире сравнимой известностью. В их числе – Огго Людвигович Струве, последний в семье знаменитых в России астрономов, правнук основателя Пулковской обсерватории.
В отличие от Тимошенко, он приехал в США не известным профессором, а недоучившимся студентом, прошедшим гражданскую войну в качестве офицера белой армии. Также без английского языка. В 1963 году он умер, будучи уже более десяти лет президентом Международного астрономического союза. Статья об О.Л. Струве – одна из особо заметных в предлагаемой читателю книге.
Замалчивание славы Струве в России можно объяснить его политической ориентацией. Это, конечно, не единичный случай. В России очень мало известно имя историка Михаила Ивановича Ростовцева. Между тем он много лет избирался президентом Американского исторического общества. Это был специалист по истории античности, сравнимый по известности, например, с Моммзеном. Перед революцией он был активным членом партии кадетов. Статья о Ростовцеве – «Скифский роман» – с блеском написана академиком Г.М. Богардом- Левиным, одним из инициаторов настоящей книги.
В случае с Ростовцевым мы снова касаемся взаимоотношений ученых- эмигрантов и Академии наук. Ростовцев был избран полным академиком после Февральской революции, летом 17-го года. Конечно, это было признанием его выдающихся заслуг. В 1925 ro/iy он получил кафедру истории в Йельском университете, одном из самых престижных в США, тем не менее в 1929 году его торжественно исключили из Академии вместе с другим известным ученым, экономистом и историком П.П. Струве.
Тема исключения из Академии ученых-эмигрантов заслуживает особого разговора. В момент революции Академия была маленькой, весьма аристократической организацией. Большинство ученых встретили революцию без всякого энтузиазма. Академия наук традиционно пользовалась в России авторитетом, и большевики некоторое время не особенно вмешивались в ее дела. Престарелые академики умирали, и своим чередом, очень вяло, шли выборы. После революции часть академиков оказалась за границей. Некоторые уехали туда и после, официально – в командировку или для лечения. До поры до времени их никто не трогал.
Один из героев нашей книги, опять основатель целой научной дисциплины, почвенной микробиологии, Сергей Николаевич Виноградский, член-корреспондент с 1894 года, после эмиграции в 1923 году был переведен в почетные члены. Это звание, ныне несуществующее, было, по сути, ниже звания члена-корреспондента и никак не соответствовало уровню этого выдающегося ученого. Все же в этом качестве он пробыл до конца своей долгой жизни (Виноградский скончался в 1953 году в возрасте 97 лет).
Другие были менее удачливы.
Советское государство всерьез заинтересовалось Академией наук в 1929 году. Прошли беспрецедентно широкие выборы. Академия почти удвоилась в размере. Тогда же из нее были «вычищены» эмигранты, оставшиеся к тому времени в живых, в том числе Ростовцев и Петр Струве. С этого момента Академия стала важным элементом советской государственности.
Выезды за границу хотя и не прекратились, но стали строго регламентироваться, и эмиграция приобрела характер уже не драмы, а подлинной трагедии.
В нашей книге даны краткие биографии трех выдающихся ученых, членов Академии, эмигрировавших после 1929 года. На первом месте здесь стоит колоссальная фигура В.П. Ипатьева. Крупнейший химик, технолог, организатор химической промышленности, он был еще дореволюционным академиком и генералом старой армии.
Сразу после революции перейдя на сторону большевиков, он сделал чрезвычайно много для советской власти. Он сделал очень много и для науки и технологии вообще. Фактически он был одним из отцов современной химической промышленности. Ипатьев уехал за границу в 1930 году, будучи уже в очень немолодом возрасте. В отличие от Струве и Ростовцева, он был абсолютно лоялен к большевикам, и покинул страну, испросив отпуск для лечения. Тем не менее и его вскоре исключили из Академии. Несмотря на солидные годы, этот могучий человек прожил в США фактически новую жизнь. И умер в глубокой старости профессором университета в Чикаго, весьма уважаемым и состоятельным. Очень жаль, что среднему интеллигенту в России его имя сегодня ничего не говорит.
О двух других «невозвращенцах», исключенных из Академии, известно больше. Я имею в виду Алексея Евгеньевича Чич и бабина и Георгия Антоновича Гамова. По учебнику органической химии Чичибабина училось несколько поколений студентов, а ярчайшая фигура Гамова, соперничавшего по таланту с Ландау, известна всем физикам и биологам. Но, может быть, здесь следует остановиться. Предисловие не должно заменять собой основной текст книги.
Следует еще раз заметить, что представленный в книге набор персоналий никак не исчерпывает темы послереволюционной эмиграции русских ученых.
Вообще, наша наука – наши богатство и слава. Мы создаем ее, и мы же ее растрачиваем. По иронии истории это богатство постоянно оказывается в руках самоуверенных недоучек, которые твердо знают одно – они могут с наукой делать все, что хотят. Такими были большевики, таковы и нынешние реформаторы.
История покажет, кто из них был более безжалостен к науке.
ВО ВСЕМ МИРЕ

Изучение световых потоков в кристаллических решетках привело к специальному наименованию уединенной волны в них, называемой теперь солитоном. Впервые ее наблюдал на воде шотландский архитектор Джон Рассел. Этот термин создан по аналогии с такими понятиями, как электрон, мезон, фотон, и многими другими, несмотря на то, что это не частица. Дело в том, что греческое окончание «он» означает «одиночный». А это как раз совпадает с уникальным характером уединенной волны и с принципом сохранения ею формы даже при пересечении с другим пучком.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: