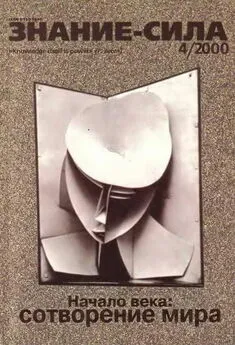Знание – сила 2000 04
- Название:Знание – сила 2000 04
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2000
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Знание – сила 2000 04 краткое содержание
Знание – сила 2000 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Система отсчета мешала не только Эйнштейну. В своей системе отсчета Фок пришел к двум представлениям, которые не выдержали испытания временем: привилегированность так называемых гармонических координат и сверхскептическое отношение к космологии. Эти представления взаимосвязаны, и за ними можно усмотреть «математическое трезвомыслие» Фока и его собственный научный опыт. Но думать так он мог лишь до шестидесятых годов, когда космология начала новую насыщенную жизнь, все более переплетавшуюся с жизнью физики.
Теории относительности двадцатишестилетнего Эйнштейна можно назвать триумфом позитивизма. А то, что это лишь одна из «крайностей», он понял при построении теории гравитации и еще более при попытках ее обобщения.
Он же, семидесятитрехлетний, обобщая свой жизненный и научный опыт, с иронией помянул «позитивистов и профессиональных атеистов, гордящихся тем, что им не только удалось «обсзбожить» этот мир, но и «обесчудесить» его».
Чудом или вечной загадкой Эйнштейн считал познаваемость мира: «Априори следовало бы ожидать хаотического мира, который никак умом не охватишь. Можно (или должно) было бы ожидать, что мир лишь в той мере подчинен закону, в какой мы упорядочиваем его своим разумом. Упорядочиваем подобно алфавитному порядку слов языка. Совсем иной порядок создан, например, ньютоновской теорией гравитации. Хотя аксиомы этой теории и придуманы человеком, успех самого этого предприятия предполагает высокую упорядоченность объективного мира, ожидать которую априори нет оснований. В этом и состоит «чудо», которое только усиливается по мере расширения наших знаний».
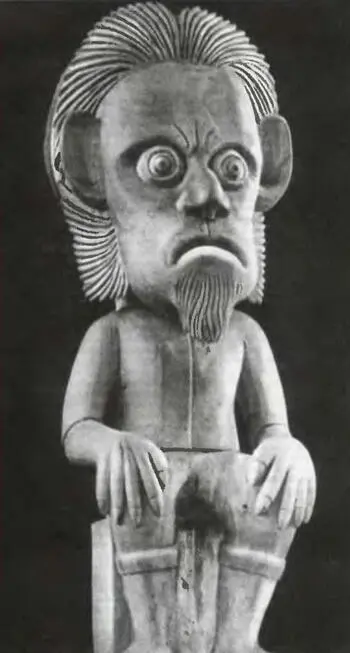
С. Ряуба. Мыслитель 1967 год
Слово «чудо» не из словаря Фока. Ему было бы гораздо легче назвать чудом великий ум Эйнштейна, чем познаваемость мира. Диалектический материализм, подняв понятие общественно-исторической практики на философский уровень, дает общее объяснение – «разоблачение» – этого чуда. Познаваемость мира сделала возможным саму эволюцию человека, для которого «орган познания» стал более мощным инструментом выживания, чем любые зубы и когти.
Загвоздка, однако, в том, что подобный общий ответ способен удовлетворить не каждого. А почему мир был «создан» познаваемым – задолго до того, как в нем появился человек? Или, в кошмарной формулировке самого Эйнштейна: «Был ли у Бога при сотворении мира какой-нибудь выбор?»
Другая сторона той же загвоздки состоит в том, что далеко не для каждого – и уж во всяком случае, не для Фока – указанный вопрос имеет смысл. Этот вопрос не имеет для них смысла, даже если его сформулировать в более скромной форме, например: почему математика так непостижимо эффективна в естествознании? Почему математические конструкции. придуманные без какой-либо естественнонаучной надобности, оказываются так идеально пригодны для описания природы? Как, например, неевклидова геометрия, которая пригодилась физике спустя почти столетие после своего изобретения.
Итак, на конкретном примере мы видим, насколько по-разному могут воспринимать научную картину мира те, кто непосредственно участвовал в ее создании. Различия касаются, в сущности, не самой картины, а, можно сказать, рамы, в которую картина заключена, или даже стены, на которой картина «висит». Для наглядных размышлений о психологической природе этих различий годится образ зрителя в картинной галерее. Стоящий очень близко к картине видит тонкости живописи в каком-то одном месте, но может забыть о существовании рамы и думать, что никакая стена вообще не нужна. Стоящий далеко увидит, что картина занимает лишь небольшую часть стены. И с другой стороны – действительно, с другой стороны – смотрящий на картину «в профиль» увидит только одну сторону рамы.
Разные точки зрения, разные системы отсчета, разные средства наблюдения.
Читатель этой статьи может уже ехидно подумать, не слишком ли умен ее автор, претендующий на то, что понимает причину взаимонепонимания выдающихся ученых. А что же они сами? Что им мешало понять причину «безрезультатности» своих дискуссий?
На это историк науки смиренно отвечает, что обсуждать различия исследовательских «систем отсчета» своих героев не значит смотреть свысока на всех них. Ведь главное занятие исследователя – не поиски взаимопонимания с коллегами, а добывание новых кусочков «абсолютной истины». Для физико-математического творчества необходимо крепко стоять на ногах в своей собственной системе отсчета и быть уверенным в ее надежности.
Беря урок у принципа дополнительности, историк может предположить, что его способность переходить от одной системы отсчета к другой находится в дополнительном соотношении со способностью добывать новое научное знание. Или, перефразируя известный афоризм: «Те, кто могут делать открытия, делают их, а кто не может, размышляют о том. как открытия делаются».
По разному «ограниченные» своими системами отсчета участники высоконаучных, хоть внешне и «бесплодных» споров – Ньютон и Лейбниц, Эйнштейн и Бор, Фок и его оппоненты, – вошли в историю науки своими бесспорными достижениями. Отсюда следует не столь уж оригинальный общий вывод о благотворности для развития науки разнообразия систем отсчета, реально сосуществующих в научном сообществе, взаимодействующих, хоть в чем-то и не совместимых.
Вывод этот можно подкрепить уроком, взятым у эйнштейновской теории гравитации, согласно которой для описания искривленного пространства-времени в целом может не хватить одной системы отсчета. Есть и простая географическая аналогия: невозможно одной «правильной» картой охватить поверхность земного шара. Здесь простейшая расшифровка «правильности» – чтобы точки, близкие на земном глобусе, оставались близкими и на карте.
Новые кусочки «абсолютной истины» видны по-разному (или вовсе невидимы) в разных исследовательских системах отсчета, в разных исследовательских картах.
Принципиальные разногласия встречаются не только в истории науки, но ее опыт особенно поучителен. В науке предмет расхождений наиболее удален от «уровня земли», наименее затрагивает людские страсти, отличается наибольшей рациональностью и объективностью, достижимой в людских делах. Зная, что и в этой сфере бывают неустранимые расхождения, с более легким сердцем и с большим пониманием относишься к расхождениям в сферах менее рациональных. Понимаешь, что дело не сводится к выяснению, кто На Самом Деле Прав. Разные средства наблюдения, стоящие за разногласием, могут и ослаблять, и обострять зрение в каких-то отношениях.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: