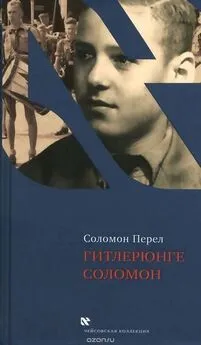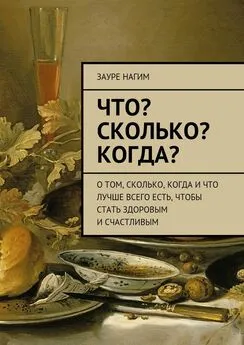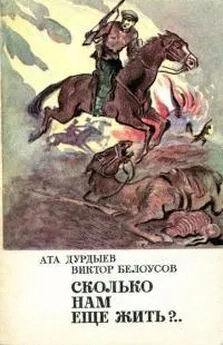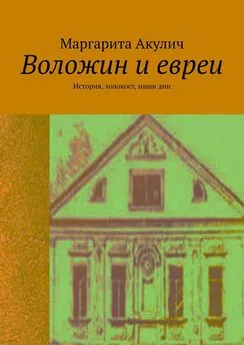Соломон Воложин - О сколько нам открытий чудных..
- Название:О сколько нам открытий чудных..
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Студия “Негоциант”
- Год:2003
- Город:Одесса
- ISBN:996-691-045-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Соломон Воложин - О сколько нам открытий чудных.. краткое содержание
В книге представлены некоторые доклады, зачитанные автором или предназначавшиеся для зачитывания на заседаниях Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых. Доклады посвящены сооткрытию с создателем произведений искусства их художественного смысла, т. е. синтезирующему анализу элементов этих произведений, в пределе сходящемуся к единственной идее каждого из произведений в их целом.
Рассчитана на специалистов, а также на широкий круг читателей.
О сколько нам открытий чудных.. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я был не прав относительно, как мне тогда казалось, пушкинского приятия демона главным образом из–за своей неосведомленности в биографии Пушкина. А теперь вижу, что и Лакшин не прав относительно, мол, пушкинского неприятия демона как зла и только — из–за биографического перекоса.
Лучше всех как бы возразил Лакшину насчет измельчения художественного смысла, если налегаешь на прототип, сам Пушкин в 1825 году: <<���…Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения , и в сжатой картине начертал отличительные признаки и влияние оного на нравственность нашего века>>.
И чтоб это парировать Лакшин опустил начало пушкинского текста. Вот оно: <<���Думаю, что критик ошибся. Многие того же мнения, иные даже указывают на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении>>. Зачем это Лакшину понадобилось? Чтоб сделать упор на прототип. И Лакшин позволил себе следующий домысел в духе дурного биографизма: <<���…опровержение, скорее всего, понадобилось Пушкину потому, что зимой 1824/25 года ему было непереносимо думать, чтобы одно из любимейших его созданий соединяли с именем человека, столь чуждого теперь ему. Ему хотелось как бы смыть в памяти лицо своего демона, отнять у него ту поэтическую честь, которую сам он дал в общественном мнении Александру Раевскому. Да и неприятно ему было числиться под чьим–то влиянием, тем более такого человека>> [3, 175]. И цитирует слова Вяземского, оправдывающегося по поводу доноса, будто бы Пушкин о нем, Вяземском, сказал однажды: «вот приехал мой демон!»: <<���по уму, если и мог бы он быть под чьим влиянием, то не хотел бы в том сознаться…>>. И Лакшин добавляет еще о расположении пушкинского опровержения прототипизации в черновиках «Евгения Онегина», что <<���всего несколькими строками выше — обширное лирическое отступление о… друзьях и красавицах, в котором содержатся прямые отголоски недавних одесских впечатлений>>[3, 176] о соперничестве относительно жены Воронцова с Александром Раевским и доносе того о ее связи с поэтом самому Воронцову.
Я возражу Лакшину собственным домыслом. Пушкин чувствовал себя благодарным Александру Раевскому за то, что тот, такой дрянной, существовал в его жизни как раз тогда, когда поэт от краха революций на Западе смотрите, как занесся в своих политических идеалах:
Ужель надежды луч исчез?
Но нет! — мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся…
Пушкину нужны были и изменницы, когда вышла замуж Анна Гирей, когда, «надежду потеряв, забыв измены сладость», он рвался к лихорадочным любовям: к Собаньской, Ризнич, Воронцовой — этим неверным женам и изменницам своим любовникам.
Ему нужны были демоны и демоницы, чтоб излечиться от рецидива тех дней, когда нам были новы все впечатленья бытия. Они нужны ему были и потому, что демонстрировали, в какую черноту он скатится от полного разочарования в тех днях.
Но… Об этом у меня есть отдельная специальная работа.
Под конец я хочу возвратиться к Выготскому. Этот гениальный ученый открыл психологический принцип художественности в 20‑х годах ХХ века, а творцы создавали художественные произведения тысячи лет до того. О чем это говорит? — О том, что художественность творится стихийно и частично неосознанно. Поэтому каждый настоящий художник недоосознает, что он сделал. Как это ни дико звучит, он недопонимает художественный смысл собственного создания.
Это можно увидеть и у Пушкина в отношении «Демона».
Каков, если одним словом, художественный смысл этого стихотворения? — Квазидемон. То есть то, что он, Пушкин, частично демонизм приемлет.
А назвал он стихотворение одним словом — демон. И это не вполне соответствует художественному смыслу.
То же — с проектом прозаического автокомментария. Лишь слово «сей» указывает, что он отстраненно относится к такой крайности, как дух отрицания и сомнения, что стихотворение и создано–то для преодоления этой крайности путем частичного приятия ее.
Однако неполное осознавание художественного смысла такого этапного произведения, как «Демон», не помешало Пушкину по–особому относиться к нему. <<���«Не стыдно ли Кюхле, — писал он брату, — напечатать ошибочно моего «Демона»! моего «Демона»! после этого он и «Верую» напишет ошибочно»>> [3, 137].
Есть разница между переживаемым и осозаваемым. Переживаемое — шире. Может быть неосознаваемое, но переживаемое. Может быть недоосознаваемое и переживаемое. К последнему и относится особое отношение Пушкина к «Демону»: он нашел третий путь, когда третий раз его настигло — однотипное — крупное мировоззренческое разочарование. И в третий раз обошлось без творческого спада. Лакшин это отметил так: <<���Пушкин переживал в ту зиму какой–то новый взлет молодых сил, запоем писал «Онегина», являлся в обществе, часто бывал в ударе, легко покорял сердца>> [3, 159]. И здесь не хочется вполне согласиться с Лакшиным. Шла ломка мировоззрения. Это не сладко. Но шла без кризиса. И это было сладко. И только это и проявлялось внешне.
Закончить я хочу согласием с одним едва уловимым нюансом у Лакшина, с которым (с согласием) Лакшин вряд ли бы согласился. Он в начале своей работы вспоминает: <<���За несколько месяцев до смерти Пушкин писал в Крым Н. Б. Голицыну: «Как я завидую вашему прекрасному крымскому климату: письмо ваше разбудило во мне множество воспоминаний разного рода. Там колыбель моего «Онегина»: и вы, конечно, узнали некоторых лиц»… Письмо Голицыну важно… тем, что прямо указывает на существование лиц, послуживших прообразами по крайней мере некоторых героев романа>> [3, 76, 77]. А вся работа Лакшина имеет подзаголовок «Александр Раевский в судьбе Пушкина и роман «Евгений Онегин»” и посвящена продвиганию хорошего протортипизма, так сказать. Так получается, что Пушкин, вспоминая благодатный Крым, по ассоциации вспоминает и Александра Раевского, благодатного, давшего ему, Пушкину, такую благодать, как прототип Онегина.
Что ж. С этим можно согласиться. Байронизм Пушкина, начавшийся с Крыма, никогда не был полноценным байронизмом [2, 72]. А можно говорить «демонизм» вместо «байронизма». Всегда байронизм–демонизм у Пушкина был лишь элементом. Благодаря байроновскому романтизму Пушкин переборол свой второй идейный и творческий кризис, но русским Байроном не стал. И именно это было благодатью: соединение несоединимого.
Да, оно хорошо развернулось в нем в Крыму в 20‑м, еще полнее (после нового залета в декабризм) в 23‑м, в Одессе. И повлияло на всю русскую литературу. Было чем хорошим помянуть юг.
1. Воложин С. И. Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы… Одесса, 1999.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: