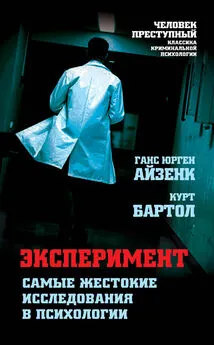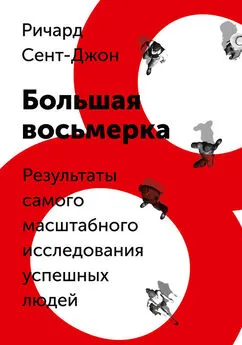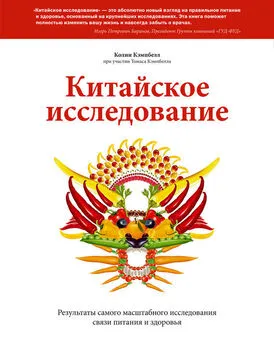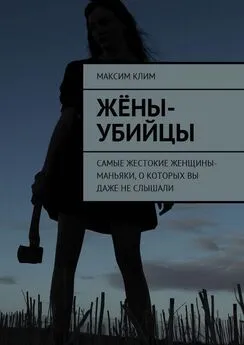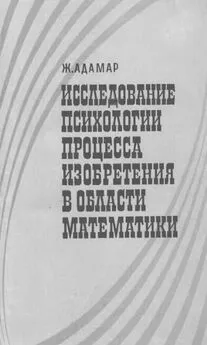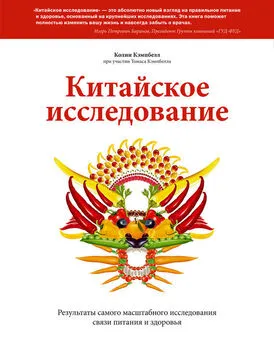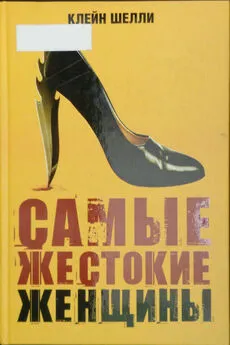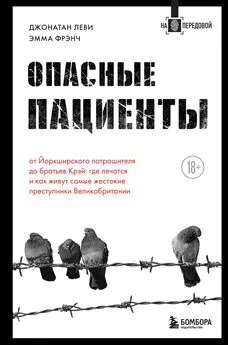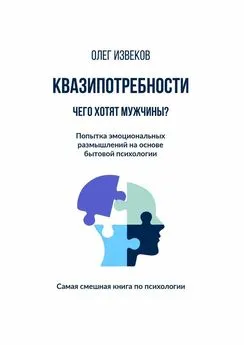Ганс Айзенк - Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии
- Название:Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907363-10-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ганс Айзенк - Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии краткое содержание
К. Бартол — профессор психологии, бихевиорист, профайлер, автор самого популярного в мире учебника по криминальной психологии.
Как люди на полном серьезе стали поддерживать идею геноцида евреев в середине XX века? Это были совсем другие люди? Мы ведь не такие, правда? Мы точно лучше.
Так обычно думают люди, изучая историю Второй мировой войны, но знаменитые эксперименты 1960–1980-х годов говорят обратное.
Студентов разделяют на две группы, охранников и заключенных, и предлагают поиграть в тюрьму. Через несколько дней эксперимент приходиться завершить досрочно из-за случаев неоправданной жестокости.
Добрейшим религиозным домохозяйкам предлагают бить человека током за ошибочные ответы, и почти 100 % испытуемых доводят разряды тока до смертельных значений.
Священникам предлагают прочитать лекцию о том, как важно творить добро и помогать людям, но видя по дороге в аудиторию умирающего человека, почти 100 % лекторов безразлично проходят мимо нуждающегося в помощи.
Мир полон двуличных и лживых людей? Каждый человек в душе преступник? Или же каждого можно просто вынудить, спровоцировать на нужное, порой преступное поведение? Что лежит в основе психологии преступника и любой ли человек способен на убийство? На этот вопрос отвечают ведущие психологи-бихевиористы XX века.
Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наши стандарты могут строиться на расхожих суждениях, что «в семье не без урода», или «люди в массе своей глупы и жестоки», или «вернейший путь к успеху это побеспокоиться о себе самом». Люди, которые усвоили правило «сначала себе» и убеждены, что жесткая конкуренция и агрессия — лучшие стратегии для достижения успеха, могут обнаружить, что агрессия, даже насильственное поведение является источником самоподкрепления и гордости (Toch, 1977). В экстремальных случаях у людей, ставящих на первое место личные интересы, не оказывается внутренних стандартов, которые удержали бы их от агрессии и насильственного поведения. Их внутренние стандарты человеческих отношений изначально оправдывают жестокие действия.
Стандарты не ограничиваются только личностью, они могут быть характеристиками культур или общества в целом. Отдельные культуры, субкультуры или группы стараются привить своим членам определенные этические и моральные нормы поведения. В этой связи мы могли бы задаться вопросом, до какой степени в американском обществе культивируется ненасильственное поведение.
Соотнося все это специально с агрессией и насилием, мы можем видеть, что личные и групповые стандарты диктуют многое в нашем поведении. Если чья-либо философия выражается суждением «жизнь — копейка» и если для такого человека действовать, не считаясь ни с чьими интересами, это норма, то насилие может стать образом жизни. Поэтому некоторые люди являются жестокими и агрессивными не обязательно для того, чтобы получить вознаграждение внешнего окружения, а постольку, поскольку агрессивность отражает их внутренние стандарты и усвоенное представление о человеческой природе. Другие люди, возможно большинство, усвоили стандарты и сформировали познавательные структуры, которые не освобождают их от ответственности за негуманное или предосудительное поведение.
До некоторой степени мы упростили теорию механизмов саморегуляции, чтобы познакомить читателя с некоторыми из ее понятий. Саморегуляция не обязательно срабатывает во всех ситуациях, иначе как бы мы могли объяснить деструктивное и предосудительное поведение, совершаемое явно приличными и нравственными людьми на протяжении многих столетий во имя религиозных принципов и идей справедливости? Что может оправдать (если вообще что-либо может) преднамеренную, запланированную крупномасштабную агрессию, например бомбардировку или войну? А как насчет терроризма во имя некоего высшего принципа? Как мы объясним насилие толпы, в которой хорошие на вид люди оказываются во власти эмоций или настроений толпы? Почему саморегулирующие механизмы не действуют тогда, когда они так необходимы?
Социальная теория научения объясняет часть из этих явлений, выдвигая гипотезу, что в некоторых обстоятельствах саморегуляторные процессы выключаются из поведения. «С точки зрения теории социального научения, добродетельные люди совершают действия, заслуживающие осуждения, вследствие процессов, отключающих оценочные самореакции на такое поведение…» (Bandura, 1983, р. 31). Возможно, что такое отключение имеет место и при импульсных вспышках агрессии. Как пишут Берковиц (Berkowitz, 1983) и Зилльман (Zillman, 1983), высокие уровни эмоционального возбуждения уводят наше внимание от механизмов внутреннего контроля. Например, в состоянии крайнего раздражения мы часто говорим и делаем вещи, о которых позже сожалеем. Мы чувствуем подавленность, полное раскаяние и чувство вины, и нам жаль, что мы не можем вернуть наши слова и действия. Если бы мы тщательно взвесили и оценили последствия нашего поведения, мы, вероятно, действовали бы по-другому. Но в пылу эмоций наша система саморегулирования со всеми ее стандартами и ценностями так и осталась незадействованной. Однако по мере взросления мы, как правило, на опыте учимся уделять более пристальное внимание внутренним механизмам контроля и совершаем все меньше импульсных действий. Эта «вызревающая» особенность может частично служить объяснением того факта, что чем старше человек, тем ниже у него показатели импульсивной агрессивности.
Для профилактики агрессивного поведения самыми действенными, скорее всего, оказываются такие техники, которые направлены на снижение возбуждения, обучение навыкам межличностного взаимодействия и коррекцию неэффективных когнитивных схем (Serin and Preston, 2001). Исследования раз за разом демонстрируют, что в сознании агрессивных преступников (как подростков, так и взрослых) преобладает собрание иррациональных убеждений и неблагоприятных ложных атрибуций и, как правило, неконтролируемое озлобление. Наглядным примером иррациональных убеждений является убеждение насильников в том, что женщины хотят быть изнасилованными.
Тем не менее, несмотря на наличие внутренних норм (стандартов), которые должны удерживать нас от насилия или нанесения вреда окружающим, все мы можем иногда причинять кому-либо вред или даже совершать насильственные действия. Когда это происходит, мы используем целый ряд способов, чтобы убедить себя в «правильности» нашего поведения. Мы можем, например, успокаивать себя, рассуждая, что при известных обстоятельствах некоторым людям необходимо преподать урок. Можно нашлепать провинившегося ребенка, можно наказать испытуемого в эксперименте электрическим током, убийца может быть наказан органами правосудия. Проблематичная логика этих рассуждений становится очевидной, если на них посмотреть с другой стороны. С точки зрения политического террориста, насильственные действия оправданны, если они совершаются во имя чего-то более важного, например освобождения общества от тирана. Поэтому в идеале следовало бы очень конкретно определять условия, при которых физическую агрессию и насилие можно оправдать (например, во имя сохранения жизни другого человека).
Частично мы можем также нейтрализовать свои внутренние стандарты рассуждениями наподобие «все так делают, многие даже хуже, чем я» или «большинство людей скрывают свои доходы, чтобы не платить подоходный налог; это часть игры». Конечно, такая точка зрения уместна для соучастников корпоративного или должностного преступления. Кроме того, как было показано в главе, посвященной преступности несовершеннолетних, некоторые группы нейтрализуют свое преступное поведение (придают ему ореол романтизма), удаляя из него атрибут «вредности». «Плохое» поведение может и в самом деле поднять авторитет человека в группе.
Другой способ, которым мы можем нейтрализовать наши внутренние стандарты, особенно те, которые направлены против насилия, это убеждение в том, что некоторые лица не заслуживают звания людей, они больше похожи на животных. Этот подход прекрасно работает, если мы допускаем разделение людей на высших и низших по природе. Другими словами, мы можем дегуманизировать (лишить права называться людьми) тех, кто совершает жестокие и отвратительные убийства, в действительности видя в них скорее животных, чем людей. Многие оправдывают высшую меру наказания на том основании, что некоторые преступники не люди. Дегуманизация помогает объяснить многочисленные случаи линчевания афроамериканцев в американской истории и отношение к евреям в нацистской Германии. Во время войны мы дегуманизируем врага, используя уничижительные эпитеты. Однако дегуманизация, как и оправдание «правоты» насилия, также имеет обратную сторону. Так, массовый или серийный убийца или человек, который постоянно ведет себя агрессивно, как мы видели, относится к своим жертвам как к объектам, лишенным человеческих качеств. Преступник не чувствует большого раскаяния за любое причиненное страдание и не озабочен упреждающим самонаказанием. Однако исследования показали, что по мере того как жертвы приобретают в глазах преступника индивидуальность и человеческий облик, вести себя безжалостно по отношению к ним становится все труднее (Bandura, Underwood and Fromson, 1975). Другими словами, если противник знакомится со своей потенциальной жертвой, то вероятность того, что он будет действовать жестоко, существенно снижается. Эго представляется особенно справедливым для преступлений, в которых убийство жертвы не является главной целью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: