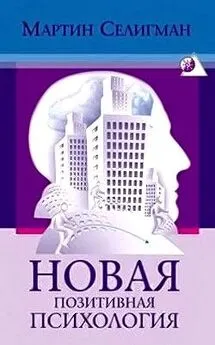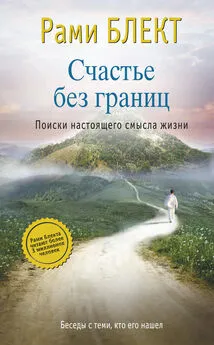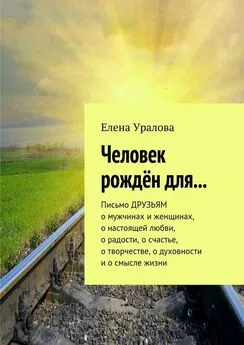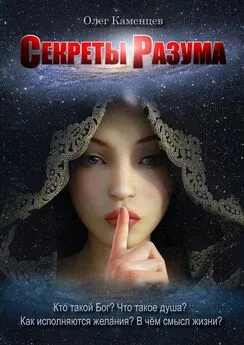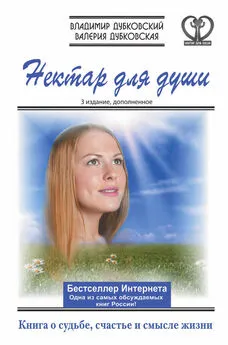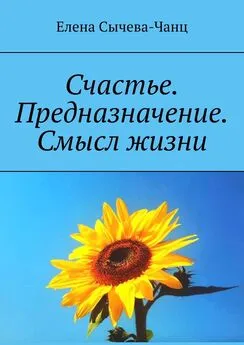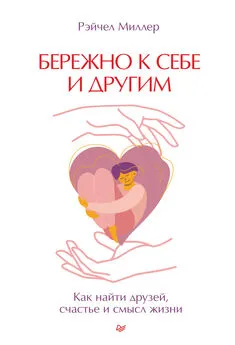Олег Цендровский - Между Ницше и Буддой [счастье, творчество и смысл жизни]
- Название:Между Ницше и Буддой [счастье, творчество и смысл жизни]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-127178-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Цендровский - Между Ницше и Буддой [счастье, творчество и смысл жизни] краткое содержание
Автор этой книги – кандидат философских наук, создатель крупнейшего в России блога и подкаста о философии, психологии и нейробиологии «Письма к самому себе». В ней эти фундаментальные вопросы разобраны и увлекательно, и доступно, и на обширной доказательной базе.
Между Ницше и Буддой [счастье, творчество и смысл жизни] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Западный подход к проблемам счастья и желания
У Льва Толстого есть небольшой рассказ под названием «Много ли человеку земли нужно?» Главный герой рассказа – крестьянин Пахом, одержимый страстью к расширению своих владений и имеющий, как он считает, одно лишь горе – что земли у него мало. Пахом узнает, что соседняя барыня решила продать землю, покупает у нее пятнадцать десятин в долг и превращается в помещика. Дела идут хорошо, но постепенно отношения его с людьми сильно портятся, он продает имущество, переезжает на новое место и заводит себе еще большее хозяйство. Но и этого, как говорится, мало. Пахом начинает вынашивать планы по приобретению нового участка, и тут заезжий купец сообщает ему, что башкиры продают первоклассную землю, да к тому же за бесценок. Всего за тысячу рублей он может получить столько земли, сколько в состоянии обежать кругом за один день.
Устоять, конечно, невозможно – Пахом радостно принимает условия башкир и ни свет ни заря отправляется в путь. Час сменяется часом, он удаляется все дальше и дальше, увлеченно размечая границы своих будущих владений, однако из жадности переоценивает собственные силы. Солнце уже клонится к закату, Пахом устал и понимает, что может не успеть вернуться к исходной точке и тогда останется с пустыми руками. Бедняга бегом пускается назад, сердце его бешено колотится, пот валит градом, а в глазах темнеет. Вот он уже добежал, но надорвавшееся сердце отказывает, и Пахом падает замертво. Работник Пахома выкапывает ему на том месте могилу в три аршина и хоронит. Вот и ответ на вопрос, много ли человеку земли нужно.
Эта история произвела большое впечатление на читающую публику и в России, и за рубежом, а писатель Джеймс Джойс зашел настолько далеко, что назвал ее величайшей из когда-либо написанных. Действительно, сюжет представляет собой мощную и лаконичную аллегорию: история крестьянина Пахома есть коренное отношение западной культуры к проблеме желания и этике в целом, помещённое под увеличительное стекло и тем самым выставленное на свободное обозрение. Как мы видели, восточная традиция рассматривает избавление от страдания и обретение блаженства как первейшую жизненную цель, самым ярким примером чего является буддизм. Для этого необходимо погасить желание обладать, отказаться от стяжательства и подчинения окружающего мира, от наших властных и жадных инстинктов.
Приближение «я имею» к «я хочу», как подчёркивается на Востоке, вовсе не дарит человеку удовлетворения. Дистанция между этими двумя переменными постоянно поддерживается, а их взаимное движение – и составляющее нашу жизнь – несет разрушение и генерирует страдание. Положить конец порочному кругу приобретений и утрат может только радикальное ограничение хищной воли, пребывание в настоящем моменте и растворение субъекта в объекте без привязанности к вещам или отвращения от них.
Напротив, на Западе мы обнаруживаем диаметрально противоположное отношение к предмету: тяготение не к ограничению воли, но к ее максимизации и полному высвобождению. Проблематика счастья и страдания при этом обыкновенно отбрасывается или выносится за скобки как маловажная. Где же о них заходит речь, счастье воспринимается не как самостоятельная цель, но скорее как возможное следствие ведения человеком наполненной и осмысленной жизни в согласии с его деятельной природой и разумом. Славой Жижек, один из наиболее известных мыслителей современного Запада, остроумно заметил: «Зачем быть счастливым, если можешь быть интересным?» Далее он продолжает: «Если вы хотите быть счастливыми, просто будьте тупыми».
Джордан Питерсон, оттеснивший его в последние несколько лет на второе место по частоте упоминаний, не менее упорно настаивает на весьма скромном положении счастья в иерархии ценностей. Подобно Жижеку, он признает, что жизнь насквозь пронизана страданием, но из этого не делается вывод, что борьба с ним является приоритетом. Важно иное – следовать своему высшему творческому идеалу, важно, полна ли ваша жизнь смысла и как вы исполняете свой долг перед собой и ближними. Если вы следуете по этому пути, то счастье может снизойти на вас как благословение, и тогда нужно принимать его с благодарностью. Однако гнаться за ним есть дело и мелкое, и просто обреченное.
Обрисованная позиция ни в коей мере не является специфической для сегодняшнего дня или для пары наугад выбранных интеллектуалов. Одновременное признание горького трагизма существования и при этом пренебрежение им в полном высвобождении стихии желания и творческой воли есть доминирующая тема западной парадигмы. Ее бесчисленные вариации проходят через все века и периоды нашей цивилизации и уходят корнями к самой ее колыбели – в греческую и затем римскую античность. Более того, древнегреческая культура и ключевой для нее жанр трагедии были основаны на сопряжении этих двух тезисов. Их ярчайшим выразителем был Софокл, который в трагедии «Эдип в Колоне» дает известнейший парафраз следующих строк поэта Феогнида (перевод А. Пиотровского):
Вовсе на свет не родиться – для смертного лучшая доля,
Жгучего солнца лучей слаще не видеть совсем.
Если ж родился, спеши к вожделенным воротам Аида:
Сладко в могиле лежать, чёрной укрывшись землей.
Написанный в VI в. до н. э. стих Феогнида – это первое отчетливое сгущение того абсолютного мрака, который неизменно маячит за спиной западной культуры, начиная с Древней Греции, проходя через христианское проклятие миру сему в противовес трансцендентному Божьему миру и новоевропейский пессимизм. Мрак этот всегда, впрочем, оказывается задушен и побежден экспансивной волей западного человека – в равной мере созидательной и разрушительной энергией желания. Обратимся вновь к Софоклу, на этот раз к его трагедии «Антигона» (перевод Ф. Зелинского):
Много в природе дивных сил,
Но сильней человека – нет.
Он под вьюги мятежный вой
Смело за море держит путь;
Кругом вздымаются волны –
Под ними струг плывёт.
Почтенную в богинях, Землю,
Вечно обильную мать, утомляет он;
Из году в год в бороздах его пажити,
По ним плуг мул усердный тянет.
И беззаботных стаи птиц,
И породы зверей лесных,
И подводное племя рыб
Власти он подчинил своей:
На всех искусные сети
Плетёт разумный муж.
Свирепый зверь пустыни дикой
Силе его покорился, и пойманный
Конь густогривый ярму повинуется,
И царь гор, тур неукротимый.
И речь, и воздушную мысль,
И жизни общественной дух
Себе он привил; он нашел охрану
От лютых стуж – ярый огнь,
От стрел дождя – прочный кров.
Благодолен! Бездолен не будет он в грозе
Грядущих зол; смерть одна
Неотвратна, как и встарь,
Недугов же томящих бич
Теперь уж не страшен.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Олег Цендровский - Между Ницше и Буддой [счастье, творчество и смысл жизни]](/books/1061069/oleg-cendrovskij-mezhdu-nicshe-i-buddoj-schaste-tv.webp)