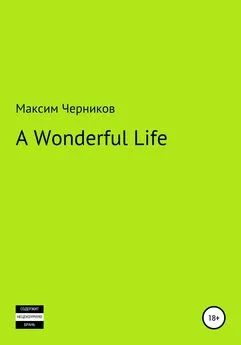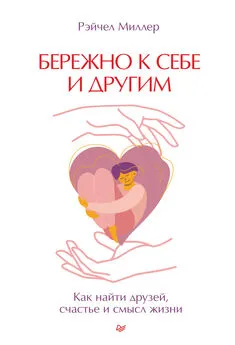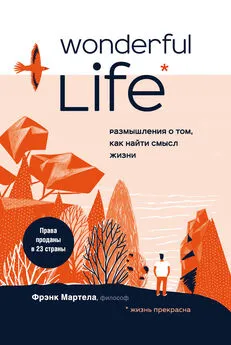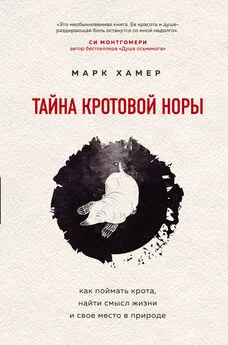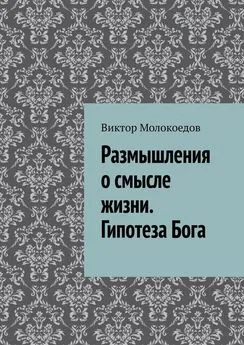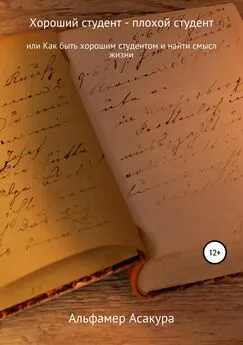Фрэнк Мартела - Wonderful Life. Размышления о том, как найти смысл жизни [litres]
- Название:Wonderful Life. Размышления о том, как найти смысл жизни [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-110857-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрэнк Мартела - Wonderful Life. Размышления о том, как найти смысл жизни [litres] краткое содержание
Wonderful Life. Размышления о том, как найти смысл жизни [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для примера: исследователь Тайлер Стиллман [188] Тайлер Стиллман – профессор менеджмента и маркетинга университет штата Юта, США. Специализация: социальная психология, предпринимательство, принятие решения, психология покупателя.
с коллегами набрал группу студентов для участия в исследовании, будто бы посвященном первому впечатлению. 108 студентов записали короткие видеоролики, в которых каждый рассказал о себе [189] Lambert et al., “Family as a Salient Source of Meaning”; Nathaniel M. Lambert, Tyler F. Stillman, Joshua A. Hicks, Shanmukh Kamble, Roy F. Baumeister & Frank D. Fincham, “To Belong Is to Matter: Sense of Belonging Enhances Meaning in Life,” Personality and Social Psychology Bulletin 39, no. 11 (2013): 1418–1427; Martela et al., “Meaningfulness as Satisfaction of Autonomy, Competence, Relatedness, and Beneficence.”
. Затем исследователи якобы показали эти видеоролики другим студентам и опросили, хотели бы они встретиться с авторами этих роликов. Никто не захотел. (На самом деле эти видео никому не показывали, и никто их не смотрел; исследователи просто сказали всем, кто в них снимался, что их отвергли.) Результаты этого исследования оказались неудивительны: создатели роликов оценили свои жизни как менее значимые, в отличие от тех, кто не принимал участия в этом эксперименте.
Но нам не надо даже проводить никаких исследований, чтобы понимать, что взаимодействие с другими людьми является ключевым источником смысла в жизни.
Я отец трех малышей (на момент написания этой книги двух, пяти и семи лет), и мне не нужно далеко ходить, чтобы увидеть, какие из моментов моей повседневной жизни наиболее значимы: приходить домой после работы, сажать на колени самого младшего, поучаствовать в какой-нибудь шутливой драке с пятилетним, погрузиться в какой-то интересный или даже удивительно интеллектуальный разговор с моим семилетним сыном. Подобные моменты полны интимности, заботы и тепла и, разумеется, наполнены смыслом. Это и те моменты близости, которые я делю со своей супругой, когда дети не требуют к себе внимания и мы можем взглянуть в глаза друг другу и вновь почувствовать, что да, это тот самый человек, которого я полюбил когда-то. Рискуя показаться сентиментальным, я могу продолжить этот список: старые друзья, коллеги, мои родители, братья и сестры, моя большая семья, включающая всех родственников. Я думаю, что подобный список есть и у вас.
В современном мире, к счастью, есть множество возможностей для человека создать близкие отношения и связи и без создания семьи. Группа моих друзей, например, решивших не заводить детей, вместо этого живут коммуной с другими своими единомышленниками. А несколько ребят из моей футбольной команды почувствовали себя настолько связанными с этим спортивным сообществом, что даже набили себе тату с девизом команды. Некоторые мои коллеги посвящают свое время, страсть, энергию и ресурсы волонтерству, участвуют в различных мероприятиях в своем районе и стремятся сделать его более социально активным и сплоченным. Прелесть нашего современного мира состоит в том, что у нас есть свобода выбора, какие именно источники жизненного смысла наиболее согласуются для нас с нашей жизнью. К сожалению, как и со многим в современном мире, это одновременно и благо, и проклятие.
Существует ли эрозия общинности в современных западных странах?
«Никто не может жить счастливо, если он рассматривает себя как единоличное существо и все превращает в вопрос собственной выгоды; нужно жить для ближнего так, как если бы ты жил для себя» [190].
Сенека, 65 г. н. э.Однажды я посетил Ориноко и за ту неделю, что был там, смог мельком понаблюдать за тем укладом жизни, который почти совсем забыт суматошным, урбанистическим современным миром: небольшая деревенька на две тысячи жителей на восточном побережье Никарагуа, до которой можно добраться только на лодке. Чувство общности и замедленный темп жизни чувствовались сразу. В первый же вечер я подружился с одним местным жителем и прошелся с ним по деревне; казалось, что каждый четвертый встречный был ему кузеном. И каждый раз мы останавливались, чтобы поговорить, поскольку никто никуда не спешил. Эта небольшая деревня была всем его миром: он здесь родился, всю свою жизнь он знал этих людей и, скорее всего, здесь и состарится, и умрет, и будет похоронен в той же могиле, что и его родители, и предки. Чем больше времени я проводил в этой деревне, тем больше чувствовал, что жить так естественно по сравнению с тем суматошным, урбанистическим, разрозненным, проектно-ориентированным образом жизни, который ждал меня дома.
Безусловно, возникает искушение объявить жизнь на этом острове раем. Как сторонний наблюдатель и иностранец, я не мог, конечно, видеть повседневных драм, межличностных разборок и различных неприятностей, которые наверняка там были. Например, болезнь на острове могла тут же перерасти в трагедию, поскольку там не было того уровня медицинских услуг, к которому мы привыкли на Западе. И все же я не мог не восхищаться и не завидовать их прочным социальным связям. Жители деревни были постоянно окружены людьми, которых они знали на протяжении многих лет; их семьи, их друзья – все были в шаговой доступности друг от друга, и с течением дней лицо каждого встречного уже казалось знакомым.
Большую часть истории люди жили как жители Ориноко. Племена охотников и собирателей были сплоченными родственными общинами. В земледельческих обществах люди обычно обитали в пределах одной общины с рождения до смерти. По сравнению с ними современные западные люди лишены корней и обособлены. Большая семья, состоящая из нескольких поколений, уступила место нуклеарной, при которой родственники могут жить за тысячи километров друг от друга. Наши «ближайшие» родственники фактически не так уж близки к нам.
История общинности и модернизации представляет собой не только историю упадка. На самом деле рост индивидуализма привел к появлению новых форм общинности, ранее недоступных крестьянину или охотнику-собирателю. Может, мы и потеряли свои корни и близость, в свое время характерные для жителей общин, но мы приобрели свободу и возможность присоединяться к общинам на основании собственных ценностей и интересов. Рождение в общине, в которую по тем или иным причинам не вписываешься, могло привести к жизненной трагедии. В наше время ситуация намного лучше: можно присоединяться к различным общинам и группам, которые ближе вашему мировоззрению и интересам. Новые колледж, институт, работа или жилой район часто дают человеку возможность заново выстроить свою идентичность в глазах других.
Традиционные общины тоже могли быть довольно деспотичны, навязывая определенные нормы и мировоззрения, устанавливая жесткие иерархии, например, такие, в которых женщины считались низшими по положению. Несмотря на то что некоторые исследователи бьют тревогу по поводу размывания общинности в Западном мире и США (особенно, пожалуй, известна в этой связи книга профессора Роберта Патнэма «Затворничество: падение и взлет американского общества») [191] В своем бестселлере «Затворничество: падение и взлет американского общества» (Bowling Alone) американский политолог, профессор Гарвардского университета Роберт Патнэм указывает, что в последние несколько десятилетий уровень социализации заметно сокращается. Посещение клубных встреч сократилось на 58 %, время семейных ужинов – на 43 %, количество приглашений друзей – на 35 %.
, научное сообщество в целом не может прийти к единому мнению, произошел или нет все же резкий спад чувства общинности за последние пару десятилетий [192]. На самом деле некоторые исследователи даже полагают, что повышение индивидуализма одновременно сопровождается ростом социального капитала. Рост индивидуализма в США привел к тому, что люди стали больше доверять незнакомцам, вступать в различные группы, их уровень социального капитала повысился. То же происходит и на межнациональном уровне: сравнение 42 стран сходным образом показало, что повышенный уровень индивидуализма влиял на увеличение членства в различных группах и вел к росту доверия к незнакомым людям. Некоторые исследователи, такие, например, как эстонские психологи Юри Аллик и Ану Реало, утверждают, что «индивидуализм выступает предпосылкой для роста социального капитала, добровольная кооперация и партнерство между индивидуумами возможны лишь тогда, когда у людей есть автономия, саморегулирование и зрелое чувство ответственности» [193] Juri Allik & Anu Realo, “Individualism-Collectivism and Social Capital,” Journal of Cross-Cultural Psychology 35, no. 1 (2004): 29–49, 34–35.
.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Фрэнк Мартела - Wonderful Life. Размышления о том, как найти смысл жизни [litres]](/books/1061494/frenk-martela-wonderful-life-razmyshleniya-o-tom-k.webp)
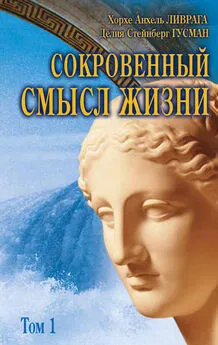
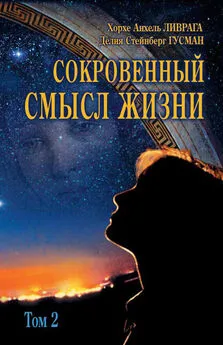

![Татьяна Мужицкая - Мне все льзя [О том, как найти свое призвание] [litres]](/books/1073266/tatyana-muzhickaya-mne-vse-lzya-o-tom-kak-najti-sv.webp)