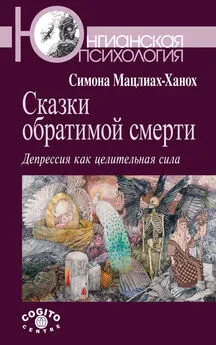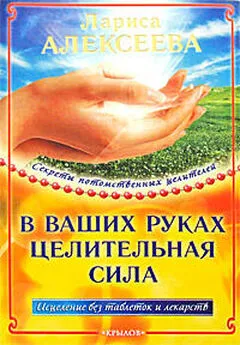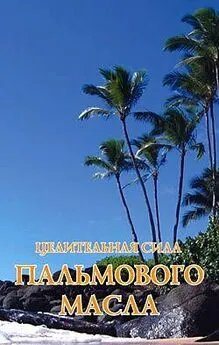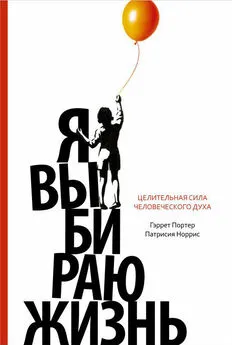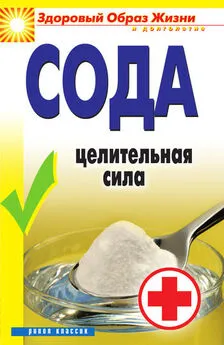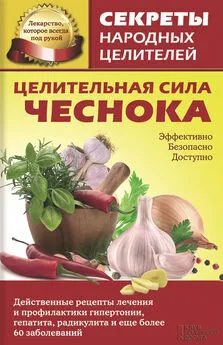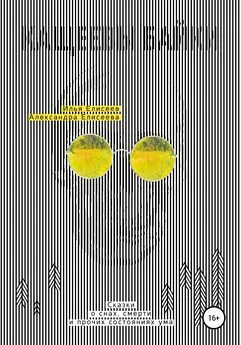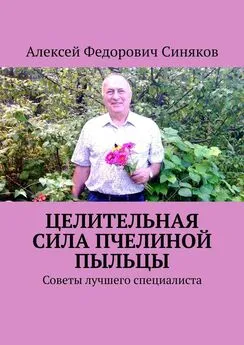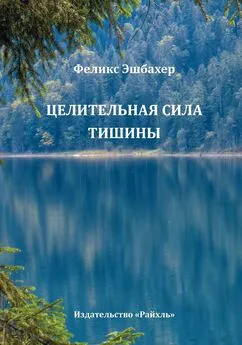Симона Мацлиах-Ханох - Сказки обратимой смерти. Депрессия как целительная сила
- Название:Сказки обратимой смерти. Депрессия как целительная сила
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Когито-Центр
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89353-431-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Симона Мацлиах-Ханох - Сказки обратимой смерти. Депрессия как целительная сила краткое содержание
Сказки обратимой смерти. Депрессия как целительная сила - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мое, можно сказать, интуитивное ощущение, что в материнском чреве Талии зародилось что-то чрезвычайно важное, исключенное из последующих более поздних версий, переросло в уверенность, когда я наткнулась на еще одну, тоже очень чувственную и многогранную вариацию на тему «Спящей красавицы» – рассказ девятого офицера полиции (в английском переводе – девятого констебля) из «Сказок тысячи и одной ночи». В этой версии (мы к ней еще вернемся) Шехерезада искусно прядет рассказ о девочке по имени Ситтукан, которая умерла, коснувшись ниточки льна, очнулась от поцелуев возлюбленного, провела с ним сорок девять бурных ночей в башне своего заточения, после чего была им оставлена, затем похоронила его и вернула к жизни своим поцелуем. Спящие красавицы говорят с нами не только о силах, порождаемых депрессией, но и о смерти, созидании и об амбивалентности наших отношений с этими исконно женскими силами.
Чисто женское созидание, когда женщина является творцом жизни, представляет собой такую же дуальную целительную силу, как и сама депрессия, но превосходит ее в мощности и напряженности. Эта сила способна предотвратить депрессию, даже когда мы оказываемся на самом дне; с другой стороны, она же действует на затаившихся в нас спящих красавиц и сталкивает их в бездну депрессии.
Спящая красавица говорит с нами о непреодолимой тяге, которую мы испытываем к инстинктивной целительной силе созидания, о том, какого труда нам стоит противостоять этим силам, об их непременном спутнике – обязательном взрослении и о нашем страхе перед этим необходимым процессом.
Чуть-чуть отвлечемся от Спящей красавицы и обратимся к Инанне: к связи между рождением (сотворением жизни) и смертью, к напряженной близости, существующей между ними. Эрешкигаль, владычица подземного царства, мучается в родах на «полу» преисподней, в то время как безжизненное тело Инанны подвешено к «потолку» подземелья. И даже в нашей повседневной жизни, когда новое рождается в наших руках, а не в родовых муках, мы опять затеваем двойной роман с жизнью и смертью: создаем керамический сосуд для хранения пищи или пепла умершего, производим белую ткань для свадебного обряда или обряда погребения. Замешанное нами тесто всходит на дрожжах нашего женского начала; засеянная нами земля приносит плоды; мы прядем судьбу; даем жизнь самим себе, взрослеем, умираем от страха; подобно бабочке, рождаемся заново из сотканного своими же руками савана; воскрешаем из амфоры, в которой хранился наш пепел. Мы создаем себя заново, возрождаясь из боли, наслаждения, утрат, открытий – из познания и признания себя и своей жизни.
Женственность, скрученная в нить
Нельзя не обратить внимания на то, что смерть всех Спящих красавиц удивительным образом связана со льном или веретеном. Особенно интересен в этом плане «Рассказ девятого констебля» из «Тысячи и одной ночи», в котором бездетная женщина мечтает о дочери, даже если она окажется «такой хрупкой, что умрет от запаха льна». Сама Шехерезада поясняет, что только очень слабое существо может пострадать от запаха льна, известного своими целебными свойствами, и тем самым еще раз подчеркивает особую ранимость героини ее сюжета. И все же, я думаю, что лен переселился в эту историю из времен гораздо более отдаленных, как и сам прядильный процесс вместе с бессилием этой девушки (подобно всем Спящим красавицам во всех версиях) по отношению ко льну, исконно женскому элементу, символу зарождения, сотворения и воссоздания. Вот и в сказке, рассказанной Шехерезадой, убивающе-оживляющая сила женского созидания находит свое выражение в прядильном процессе: героиня этой истории тоже прядет жизнь.
Только какой будет эта жизнь?
Сознание, что мы в состоянии собственными руками спрясть свою жизнь, может придать нам жизненных сил, а может, наоборот, напугать до смерти. И если наша душа относится к роду спящих красавиц, глубокий внутренний страх предупреждает нас не прикасаться к веретену, в то время как мы стремимся к нему всем сердцем.
В результате рискованная встреча с прялкой, навязанная во всех без исключения случаях самой яркой архетипичной старухой, ввергает эти юные прекрасные души в глубочайшую депрессию. И тогда в процессе депрессии в них просыпается достаточно жизненных и созидательных сил, чтобы сотворить себя заново, но путем несравнимо более тяжелым и жестоким, чем тот, который можно было проделать с прялкой в руках, если бы только этот путь был им доступен.
Во всех версиях сказки, как только родители девочки выслушивают безжалостное предсказание, они немедленно удаляют из замка, а иногда и из всего королевства все, что имеет отношение ко льну: иглы, прялки, веретена, нити – такова обреченная на неудачу попытка обхитрить судьбу или предотвратить будущее. В определенном смысле все эти иглы, прялки, веретена и спицы символизируют муки юности и взросления, которые пытаются предотвратить слишком хорошие родители нашей юной принцессы. И как это ни парадоксально, избавляя ее от страданий, связанных с взрослением, они лишают ее и самого взросления.
Но истинная угроза не таится в игле, и даже укол иглой не является опасным: только прядильный процесс в сочетании со льном может привести к ожидаемому пагубному результату; и точное соблюдение этого сочетания наблюдается во всех сюжетах, какими бы стерилизованными они ни были. Прясть другие нити, к примеру, из хлопка или овечьей шерсти недопустимо. Обычное, не связанное с прядением касание льна или случайный укол иглой тоже не выполняют своей работы. А «работа» в данном случае – это тяжелое противостояние процессу взросления, конечным результатом которого должно стать превращение в женщину, способную дарить жизнь.
И мужчины, и женщины в равной степени не раз испытали на себе как жизнетворное, так и смертоносное влияние творчества в искусстве; и все же существует определенный тип созидательного труда, который в древние времена был доступен исключительно женщинам. В своей книге «Великая Мать» Эрих Нойманн [76]пишет, что прядильное и гончарное ремесло были категорически запрещены (на уровне табу) для мужчин, так как считались исконно женским священнодействием.
Адриенна Рич, для которой (как и для многих из нас) природное женское начало являлось источником силы и вдохновения, писала: «Процесс превращения сырьевых волокон в нить неизменно подразумевал способность управлять вопросами жизни и смерти. Паук, плетущий паутину из своих выделений; Ариадна, протягивающая своему возлюбленному клубок ниток, чтобы вывести его из лабиринта; три сестры, управляющие судьбой, в греческой мифологии или норны из скандинавских мифов; старухи, прядущие нить жизни или разрезающие ее…» [77]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: