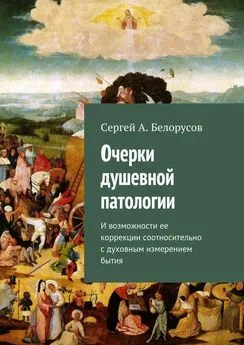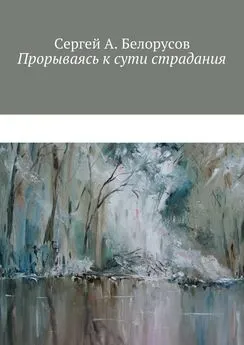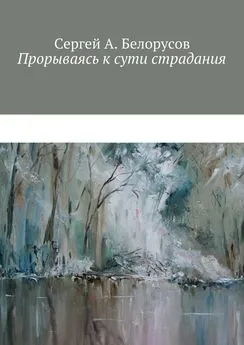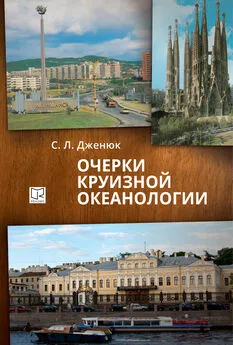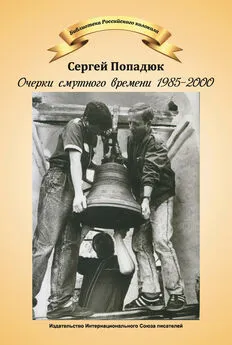Сергей Белорусов - Очерки душевной патологии и возможности ее коррекции соотносительно с духовным измерением бытия
- Название:Очерки душевной патологии и возможности ее коррекции соотносительно с духовным измерением бытия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Sanktum
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Белорусов - Очерки душевной патологии и возможности ее коррекции соотносительно с духовным измерением бытия краткое содержание
Книга посвящена христианскому осмыслению ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. ТВОРЧЕСТВА, СТРАДАНИЯ, ЛЮБВИ, ПАТОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ, СЕКСУАЛЬНОСТИ, ЗРЕЛОСТИ, ОТНОШЕНИЮ К СМЕРТИ И ДУХОВНОМУ РОСТУ. Ее можно было бы также назвать: «Как радоваться тому, что ты христианин в сложном современном мире».
Очерки душевной патологии и возможности ее коррекции соотносительно с духовным измерением бытия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Незнакомство со сферой общего опыта, отпадение от сокровищницы «коллективного сознания», чуждость согласованно принятым паттернам чувствования и мышления приводит к опоре исключительно на собственные ресурсы, причем отсутствие значимых ориентиров выбора порождает либо тревожность, либо упрямство. Наверное, это первичное шизофреническое свойство. Тревожность влечет за собой ступор выбора и является причиной ангедонии (невозможности предпочесть позитивные эмоции), а рандомизированно-компульсивный необосновано осуществленный выбор, как правило, оказывается неправильным, что собственно и является механизмом бреда. Феноменологически, бред является не столько фантастически придуманным, сколько общепринято статистически маловероятным вариантом суждением о реальности. По сути, бред есть явление антагонистическое феномену вдохновения. Последнее есть явление личностного выражения общечеловеческого креативного призвания, в то время как бред (эмоционально насыщенное, заведомо неправильное, некорригируемое утверждение) обнажает индивидуалистическое упрямство как прихотливое настаивание на принятии одной из частных возможностей в качестве неопровержимой истины.
Акцентуация «ипостасности» является выражением страсти «гордыни» и в конечном счете является само-возвеличиванием, ложно-бытийным аутизмом. Начиная помещать на вершину иерархии ценностей собственное «Я» в культивировании собственного благополучия/ творчества/ славы/ здоровья, человек, словно перекрывает животворящие потоки «усийности» — сопричастности обще-бытию. Нарушается его призванность быть «частью» человечества, членом тела Церкви. Начинаются судорожные попытки автономного само-сохранения — выживания.
Теперь нам вновь предстоит вернуться к богословию. Хорошему, преемственному святоотеческому богословию, предназначенному для прояснения картины мира. Подвергая теологическому осмыслению простой, пронзительный и болезненный вопрос, с которым сталкивается, наверное, каждый, а именно — «Как факт существования любящего и всемогущего Бога соотносится с существованием в мире зла?» — на выходе мы получим ответ — «в силу даруемой Богом свободы». Свободы для мира вначале невидимого — ангельского, где в метаисторический эон происходит самоопределение сил, а затем видимого, в котором степень свободы убывает почти механически по мере упрощения творения, а на высоте его стоит человек в явлении своего богоподобия.
Читаем у близкого к Православию философа: «Творческая свобода заложена в человеке как печать его богоподобия» 47 47 Бердяев Н. А. Самопознание. Проблема человека. К построению христианской антропологии. Л.: 1991
. Находим у авторитетного богослова: «Бог — просящий подаяния любви нищий, ждущий у дверей души и никогда не дерзающий их взломать. То есть Бог бессилен перед человеческой свободой, так как она исходит от Его всемогущества 48 48 Лосский В. Н. Догматическое богословие. М.: 1991
». Размышляем…
Человеческое бытие тем далее отстоит от животного, чем более его поведение прочувстованно и осознанно, то есть чем менее оно принуждающе инстинктивно и, в свою очередь, чем более оно произвольно. Понятие произвольности приводит нас к рассмотрению категории выбора. В первом приближении, можно утверждать, что человек есть существо выбирающее. Если пройти дальше, то — чем четче выбор определяется ценностями высшего порядка, чем он ответственнее в смысле принятия его последствий — тем точнее данное существо отвечает критериям человечности. И, наконец, личность, в понимании Христианства, трансцендирует категорию выбора, оказываясь в метафизическом пространстве осуществления своей свободы как произвольного отказа от выбора во имя высшего модуса бытия — согласия, диалога, синергии с Творцом.
Акт выбора включает в себя два последовательных момента: различения и воления. Действительно, для адекватной репрезентации последствий выбора необходимо осознание различий предметов оного, и как метко недавно подмечено, (в НЛП-теориях), выбор между двумя является некорректным, настоящий выбор может быть реализован в альтернативе, включающей не менее трех возможностей. Применительно к предмету нашего рассуждения, этот момент «различения» относится, несомненно, к «ипостасной» составляющей личности.
Дальнейшее осуществление акта выбора происходит посредством «волеизъявления», декларации готовности к действию, приложения усилий. Здесь своего рода «энергетика», черпается из «усийных» ресурсов личности.
Личность духовно и душевно «здоровая», то есть без признаков очевидных «страстей», либо психических расстройств, находится на пути к совершенству и делает «выбор без выбора», то есть, соглашаясь с волей Высшего о себе, в свободе, радости и благодарности.
Личность, находящаяся в патологическом процессе делает выбор, основываясь на предпочтениях падшей автономизированой «самости». И онотологически, здесь также не происходит выбора, поскольку не-причастность обуславливает неправильный и неправедный вариант, то есть ситуация является не более чем «реализаций самости», приводящей к «иллюзии» выбора. Это метафизическая рулетка, но состоящая не из 36 клеток, а миллионов вариантов, однако в итоге выпадает всегда дьявольское «зеро».
Итак, воля человека, реализуемая в возможности выбора, оказывается поставленной в два модуса осуществления: если выбор личностно целостен, происходит синтонно с все-человечностью, и синергийно Промыслу, то он коррелирует со здоровьем, правильностью и святостью. Альтернативно, можно предположить следующее.
Предпочтение конформизма, то есть акцентирование «усийности» коррелирует с псевдо-органическими и абулическими типами шизофренического дефекта. Преобладание «ипостасности» характеризует тенденцию к изоляции, само-центрированности, аутизму, что отражает тропность к психопатоподобным негативным образованиям.
Личность же склонная к шизофрении в силу обособленности от «усии», отсутствия резонанса общности оказывается энергетически обделенной. Такой человек проживает жизнь в большем напряжении, большем трагизме. Оторванный от материка всечечеловечности, он всю жизнь строит к нему мосты, чаще прихотливо изогнутые, причудливые и неустойчивые. Как он болеет? Лишенный безошибочного выбора естественных предпочтений он оказывается среди равновероятных для него бытийных возможностей. Расширенный выбор обуславливает рост тревоги. Когда нет интуитивно чувствуемого правильного направления, возможности предстоит пробовать на подходящесть, прочность и безопасность. Невозможно воспользоваться опытом предшественников, поскольку доступ к соборной памяти человечества закрыт. Одинокое существование царственно и беспомощно. Когда оказываются на исходе истерзанные тревогой внутренние ресурсы, то происходит снижение (регрессия) к более примитивному бытийному уровню. Это и есть сумасшествие.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: