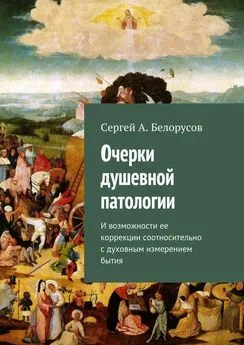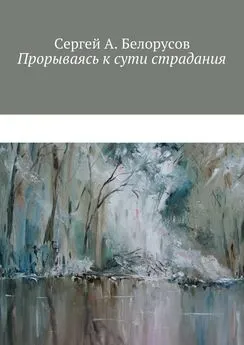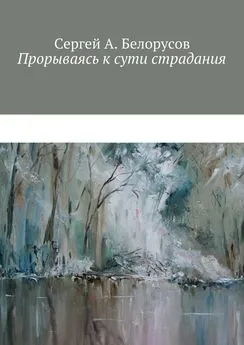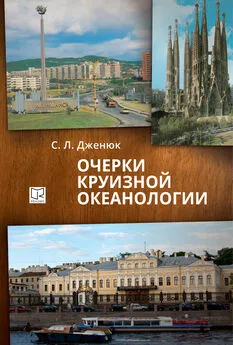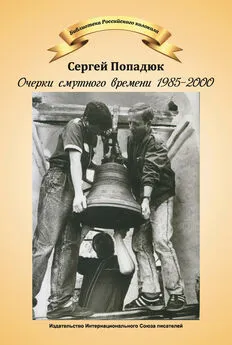Сергей Белорусов - Очерки душевной патологии и возможности ее коррекции соотносительно с духовным измерением бытия
- Название:Очерки душевной патологии и возможности ее коррекции соотносительно с духовным измерением бытия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Sanktum
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Белорусов - Очерки душевной патологии и возможности ее коррекции соотносительно с духовным измерением бытия краткое содержание
Книга посвящена христианскому осмыслению ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. ТВОРЧЕСТВА, СТРАДАНИЯ, ЛЮБВИ, ПАТОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ, СЕКСУАЛЬНОСТИ, ЗРЕЛОСТИ, ОТНОШЕНИЮ К СМЕРТИ И ДУХОВНОМУ РОСТУ. Ее можно было бы также назвать: «Как радоваться тому, что ты христианин в сложном современном мире».
Очерки душевной патологии и возможности ее коррекции соотносительно с духовным измерением бытия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
СПУТНИК: Вот, вот, вот… Ты сказала… Больше всего призывает людей к изменению тот, у кого самого невротические блоки к тому чтоб меняться. Знаешь, действительно в мои профессиональные обязанности не входит прояснять твое вероисповедание. Но если это большая часть тебя, то давай вот что прикинь… Какой тебе надо стать, чтобы не из книжек, а глядя на тебя муж захотел бы быть христианином..
А ведь продолжать эти истории можно бесконечно. И у каждого специалиста (СПУТНИКА) вспомнится своя. Парадоксально, но их объединяет разные судьбы и ситуации. Но в принципе, у клиента (СТРАННИКА) нет духовного запроса, в то время как терапевт в процессе помощи апеллирует к тому уровню духовности, который присутствует к страждущего здесь и сейчас. У приснопамятного вл. Антония (Сурожского) есть изумительный, можно четко сказать, психотерапевтический прием — «Обращайтесь к собеседнику, как бы выше его уровня, и тогда он будет вынужден подтягиваться до него».
Отметим, что в приведенных случаях прямолинейная церковная лексика оказалась бы очевидно неуместной. Несомненно, что терапевт учитывает это и сознательно жертвует ей для того, чтобы быть вместе с клиентом. И здесь можно ассоциативно припомнить красивую средневековую притчу. Один аббат укорял бродячего циркача — «Ну что у тебя за постыдное ремесло… Ну, глянь, как у нас в соборе, стоят молчаливые прекрасные статуи, все так благолепно и чинно, ну разве ж это не умилительно?» Пригорюнился акробат, присел на церковную скамеечку, призадумался, тронут был сердцем, а потом как встряхнет головой и вскрикнет: «Ну ничего из ваших песнопений, святой отец, я не знаю, но так мне запал в душу трогательный рассказ о милости Богородицы к нам, грешным, то ради Нее сделаю-ка я то, что единственно умею делать хорошо — пройдусь колесом по храмовой лужайке». И улыбнулась тогда статуя Божией Матери.. Вот так и нам, религиозно-ориентированным терапевтам, порой приходится «ходить колесом»…
Христианство в практике психотерапии — оптимальная возможность обретения гармонии личностного роста — тезисы
1) Христианство, как оформившаяся религия, возникло в хронологически точном пункте — 6 веков спустя «осевого времени человечества» (К. Ясперс), когда происходило становление восточных религий; и за 6 веков до того, как появился Ислам, крупнейшая после Христианства, вера, во много определяющая нынешнюю расстановку мировой цивилизации. Если, будучи психологами, мы признаем сознательную или бессознательную детерминацию всех явлений психической жизни, то, распространяя принцип «обусловленности» на этот исторический факт, мы можем предположить его онтологическое значение в том, что Христианство являет хорошо сбалансированную позицию между тенденцией к медитативному «бесстрастию» восточных религий и прагматичной «пассионарностью» мусульманства.
2) Секулярное религиоведение предлагает довольно искусственное разделение между моно — и политеистическими религиями. Если таковую идентификацию еще возможно провести в догматико-теологической сфере, то применительно к религиозному мировоззрению отдельной личности это оказывается весьма затруднительным, потому что для самого строгого последователя монотеизма существуют значимые духовные реалии помимо Единого Творца и для каждому формальному политеисту свойственно выстраивать иерархию духовных сущностей, неизменно приходя к наиболее авторитетной для него фигуре, адресуя ей наибольшее поклонение. В Христианстве это явление противоречия снимается тезисом — сколь необъяснимым рационально, столь и узнаваемым экзистенциально — догматом Единого Бога в троичности Ипостасей, позволяющем выстроить мировосприятие, исходя из примата Любви.
3) Аксиологический контент признанных религиозных традиций базируется на некоторых общих принципах, как то: а) признание существования Высшего; б) возможность диалога с Высшим; в) необходимость ритуальных действий для реализации двух диалогических динамик — просьбы и благодарности Высшему; г) добродетель, как следование воле Высшего; д) целесообразность и красота мироздания свидетельствуют о благости Высшего. Вместе с тем, можно предположить доминирование определенных ценностных акцентов в той или иной традиционной религии. Тогда приоритетами духовности, определяющих их сущностный стиль, видятся: для шаманизма — поиск контактов с Высшим через его проявления в природе; для классического индуизма — поиск истины через соответствие красоты смыслу; для буддизма — принципиальная отрешенность от низшего для торжества Высшего; для иудаизма — верность открытому Свыше через следование предписаниям (талмудизм); для ислама — покорность воле Высшего вплоть до самопожертвования (шахида). Христианство включает в себя все вышеперечисленное, сообразуя это соподчиненным высшей ценностной ориентации — Любви.
4) Любое религиозное мировосприятие включает в себя предпочтительность форм выражения почтения, уважения, стремления к сопричастности Высшему. В этом вопросе мы также можем рассмотреть две полярные точки зрения. С одной стороны, очевиден синкретизм систем богопоклонения религий Востока, в маргинальных своих вариациях содержащих такие явления, как возможность человеческих жертвоприношений (в прошлом) или «просветление» через сексуальные практики (Тантра-иога). С другой стороны, Ислам, минимизирующий приемлемые формы экзистенциального диалога с Высшим, через множество запретов (изобразительного искусства) и тенденцией к крайней регламентации жизненного стиля адептов (шариат). Христианство же, в этом отношении, говоря языком современной психологии, — мультимодально. Здесь снисходительно привечающее отношение к этническим обычаям: — кавказские православные режут баранов, в то время как среднероссийские — пекут блины, африканские неофиты — сопереживают «ритуальному танцу епископа», современный диакон о. Андрей Кураев проповедует на концертах жесткого рока, здесь Христианство руководствуется словами бл. Августина — «В главном — единомыслие, в остальном — свобода и во всем — любовь».
5) Примечательно, что любая религия, будучи имманентной факту человеческого существования, в качестве основного ставит вероучительный вопрос о посмертной участи индивида — участника человечества. И вновь, мы сталкиваемся с тем, что в различных традициях он решается по разному. В иудаизме, он деликатно обходится стороной. В восточных религиях принята концепция реинкарнация с идеалом выхода «из сансары в нирвану». В Исламе наглядно и маняще прописана картина Рая (сады и гурии). Христианство предлагает более дерзновенный и более достойный человеческому бытию предел само-актуализации — не менее, чем «стать богом» то есть святоотеческое понятие «теозиса — обожения», выраженное максимой св. Афанасия «Бог стал человеком, чтобы мы стали богами».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: