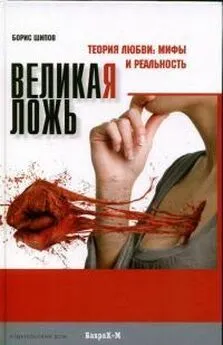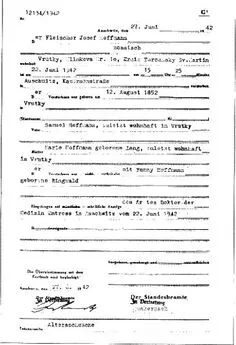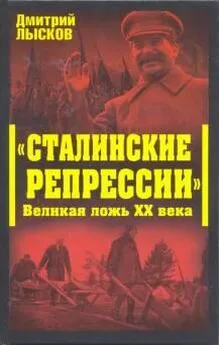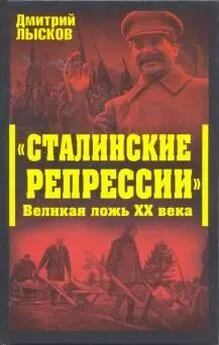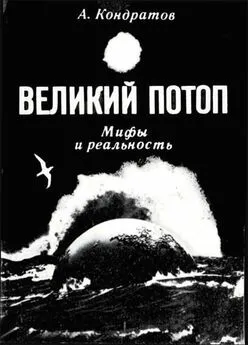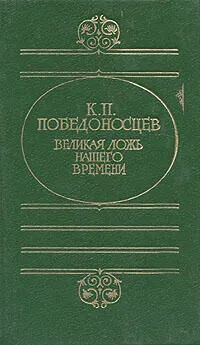Борис Шипов - Великая ложь. Теория любви: мифы и реальность.
- Название:Великая ложь. Теория любви: мифы и реальность.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2010
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Шипов - Великая ложь. Теория любви: мифы и реальность. краткое содержание
Великая ложь. Теория любви: мифы и реальность. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Половая любовь без секса
А самая интересная, точнее, самая вопиющая особенность теоретических трудов по теме половой любви — упорное нежелание признавать в ней роль сексуальных страстей. В начале прошлого века О. Вейнингер, автор нашумевшей книги «Пол и характер», которую регулярно переиздают до сих пор, в возрасте двадцати лет с небольшим лет сурово рычал: «Любовь и вожделение — это два состояния, до того различные, противоположные, друг друга исключающие, что человеку кажется невозможной мысль о телесном единении с любимым существом в те моменты, когда они проникнуты чувством истинной любви … Человек лжет или, в лучшем случае, не знает, о чем говорит, когда утверждает, что он еще любит женщину, к которой питает страсть: настолько разнятся между собою любовь и половое влечение … существует только платоническая любовь . Все прочее, что обозначается именем любовь, есть просто свинство… одно нечаянное, самое случайное телесное прикосновение к любимому существу: оно вызывает страсть и тут же убивает любовь » {12}.
Ему вторили русские философы В. Соловьев с Н. Бердяевым: «… Соединение … физиологическое не имеет определенного отношения к любви. Оно бывает без любви, и любовь бывает без него. Оно необходимо для любви не как ее непременное условие и самостоятельная цель, а только как ее окончательная реализация. Если эта реализация ставится как цель сама по себе прежде идеального дела любви, она губит любовь» {13}. «Сильная любовь-влюбленность может даже не увеличить, а ослабить половое влечение. Влюбленный находится в меньшей зависимости от половой потребности, может легче от нее воздерживаться, может даже сделаться аскетом» {14}.
Прошло сто с лишним лет. З.Фрейда, который вообще все в человеческой психике выводил из либидо, из полового влечения, давно признали гениальным ученым — даже в России. Исполнилось несколько десятков лет с начала сексуальной революции. А в упомянутом учебном пособии для студентов, изданном в самый последний год XX века, читаем: «… главное, ведущее начало в любви вовсе не половое влечение, не либидо, а любовное поведение, идея, концепция любви. Они могут как соединяться с телесностью, так и отсоединяться от нее» {15}. То есть, половая любовь вполне может существовать и без полового влечения, и без телесности! Пособие, напомню, называется «Любовь и сексуальность».
Согласиться с этим программным заявлением мешает многое. Получается, что в зрелом возрасте, лет этак в 40-60, люди должны бы испытывать пылкие страсти, от которых мутится в голове, во всяком случае не реже, чем в молодости. В 15-25 лет все мы порядочные эгоисты, и любовное поведение, как оно мыслится теоретиками, то есть «жить радостями другого», нам не очень свойственно. Либидо, правда, — хоть отбавляй, но, в соответствии с учебником, для любви это не имеет никакого значения. Ну и откуда бы при таком раскладе ей взяться? Тем не менее почему-то именно в этом возрасте чаще всего и влюбляются.
В старшие годы, став родителями, а потом бабушками и дедами, люди все больше привыкают к любовному поведению, то есть, к заботе о своем ближнем. Либидо убывает, но это сущие пустяки. Почему же тогда, уйдя на пенсию, мы не влюбляемся?
Далее. Во всех романах подозрительно часто героями любовных историй выступают молодые красавцы и красавицы с гладкой кожей, если чем и приметные среди других людей, так не умом, талантом или ангельским характером, а только своей сексуальной привлекательностью. Отчего же любовное поведение, происходящее вовсе не из либидо, так охотно направляется именно на них?
Думая о своих друзьях, родственниках, сослуживцах, мы вспоминаем их характеры, образ мыслей, поступки. Их телесные прелести интересуют нас в самую последнюю очередь. Но когда мы читаем поэтические описания возлюбленных — там, наоборот, сплошь анатомические подробности: волосы, брови, губы, груди и бедра, а их образ мыслей и мировоззрение — на десятом плане. Видимо, все оттого, что «ведущее начало в любви вовсе не половое влечение».
Во всех романах, какой ни возьми, даже женский сентиментальный, мечты влюбленного крутятся вокруг одного и того же: заключить в объятия и слить уста в поцелуе. Без сомнения, по той же самой причине.
Нередкая жизненная ситуация: он любит, а она выходит замуж за другого. Он страдает, хотя она совсем не прочь сохранить с ним прежние теплые дружеские отношения. Ну и с чего бы страдать? Юный Вертер из «Страданий юного Вертера» Гете даже покончил с собой, хотя имел возможность видеть жену своего друга, в которую был влюблен, чуть ли не каждый день и мог общаться с нею сколько душе угодно. Единственное, чего он не мог, так это спать с ней, но ведь для истинной любви сексуальные страсти (см. выше) — совсем не главное. Главное — любовное поведение.
Получается довольно занятно: взрослые люди, читая в романе или видя в кино, как герой крадется ночью в спальню к своей возлюбленной, очень хорошо его понимают и даже сопереживают, то есть, совсем не прочь оказаться на его месте. Но как только берутся теоретизировать, приходят к выводу, что истинно влюбленному ночью в чужой спальне делать решительно нечего. И опять то же самое: кабы один кто-то… Но когда все дружно?!
Когда не теорию подгоняют к фактам, а факты к теории, и упорно не желают видеть очевидное, вывод один: теория не нужна. О чем и говорилось в самом начале.
О чем у нас речь?
Почти каждая книга или статья про любовь начинается с жалоб на многозначность этого слова. У. Мастерс и В. Джонсон пишут: «Можно любить жену, мужа или просто близкого человека, и в то же время любить своих детей, родителей, родственников, собак, кошек, родину, господа, а также радугу, шоколадный пломбир и Бостонскую бейсбольную команду. И хотя мы во всех этих случаях пользуемся одним и тем же словом, тем не менее, каждый раз оно означает нечто иное» {16}. В русском языке то же самое.
Причина подобных умствований — опять же бессознательное стремление запутать вопрос: продемонстрировать глубокомыслие, ничего не сказав по существу. Когда такой задачи не стоит, многозначность слов никаких проблем не создает — ее попросту не замечают. Так, не припомню случая, чтобы врач в начале статьи жаловался: до чего же трудно писать на медицинские темы, когда «операция» — это и хирургическое вмешательство, и военное наступление по плану, и часть работы на конвейере! Да есть к тому же еще бухгалтерские и кассовые операции…
Слово «ненависть» также многозначно: ненависть бывает к врагам отечества, расовой, классовой, к обидчику, из зависти, к сопернику в любовных делах, к кошкам и, наконец, к команде, побившей Бостонскую бейсбольную команду. Ну и что? Взявшись за статью, допустим, о расовой ненависти, автор на первой же странице, не впадая в глубокомысленные рассуждения по поводу многозначности слов, обозначит тему: «В некоторых странах одна группа населения ненавидит и презирает другую группу из-за иной национальной принадлежности или из-за цвета кожи. Постараемся выяснить истоки этого явления». Вам понятно о чем идет речь? Ну так вперед! И никакой терминологической путаницы не предвидится.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: