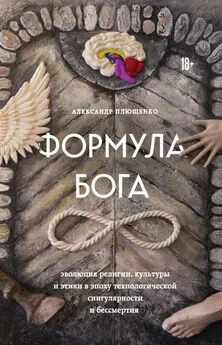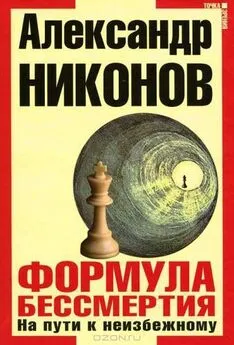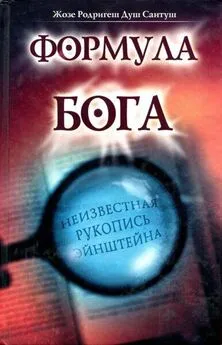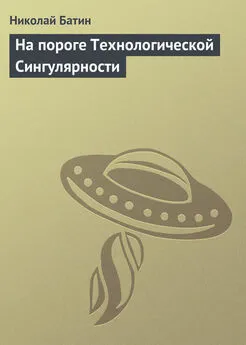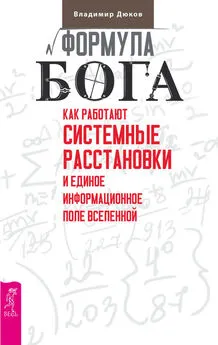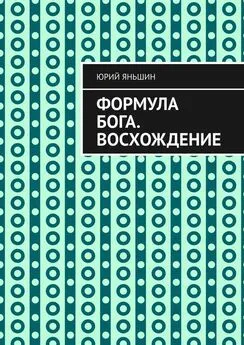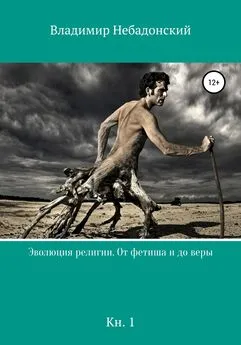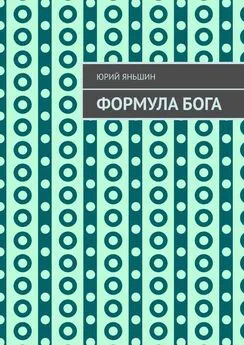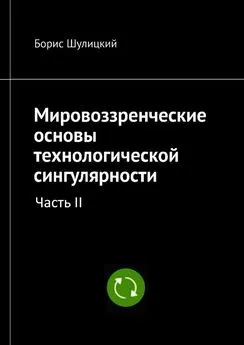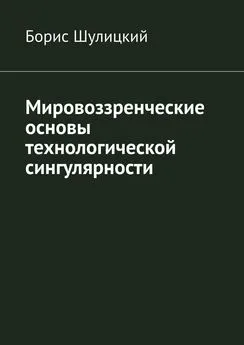Александр Плющенко - Формула Бога. Эволюция религии, культуры и этики в эпоху технологической сингулярности и бессмертия
- Название:Формула Бога. Эволюция религии, культуры и этики в эпоху технологической сингулярности и бессмертия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-600-02723-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Плющенко - Формула Бога. Эволюция религии, культуры и этики в эпоху технологической сингулярности и бессмертия краткое содержание
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Формула Бога. Эволюция религии, культуры и этики в эпоху технологической сингулярности и бессмертия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Феноменологический взгляд на вещи поддерживает такой подход к жизни, который скорее свойствен искусству, чем науке или религии.
Гуссерль считал, что человек есть не что иное, как события его жизни, потому у человека нет определения .
Эта мысль указывает на то, что в мире уникальны не только предметы, но и люди: у каждого из нас свой взгляд на жизнь, и ничего не может быть вне этого взгляда. В связи с этим нам неизбежно следует расстаться с мыслью, что где-то есть хоть что-то похожее на абсолютный принцип или абсолютную человеческую природу, чтобы эти два понятия можно было соединить и получить одну истину.
Гуссерль о конкретике в искусстве: «Обращая внимание на конкретное, мы боимся, что нам придется иметь дело с исключениями из правила; искусство по самой своей природе экзистенциально, оно занимается конкретными вещами, тогда как рационализм интересуется только их взаимоотношениями».
По поводу науки Гуссерль придерживался мнения, что она не в большей степени, чем религия, может претендовать на постижение мира, причем ответы науки не обязательно окажутся для многих из нас самыми оптимальными.
По словам Сартра, Гуссерль «вернул нам мир художников и пророков».
Многие считают, что Поль Сезанн открыл новую эпоху в искусстве, поскольку во многом стремился видеть вещи в их полноценной независимости от людей. Он хотел показать, что интеллект не руководит восприятием, но окутан им: он всегда стремится уловить предметы раньше, чем интеллект расставит их по полочкам, в результате чего вещи станут не такими, какими их видит разум. Так, Сезанн рисует тарелки с несколькими контурами, потому что они были именно такими, пока к делу не подключился ум.
А. А. Ричардс считал, что «искусство способно нас спасать, это прекрасное средство для преодоления хаоса».
О том же говорили кубисты, что позволило сделать им заметный шаг вперед в искусстве: созданные ими предметы не следовало рассматривать как образы, но как самостоятельные предметы. Их новизна и свежесть были частью их самих, частью их смысла.
Клайв Белл рассуждал: «Искусство есть выражение и средство достижения таких состояний ума, которые подобны опыту священного. Именно к искусству обращаются современные умы – и не только для наиболее совершенного выражения трансцендентных эмоций, но и в поисках вдохновения, помогающего нам жить».
Автор романа «Любовник Леди Чаттерлей» Дэвид Герберт Лоуренс писал: «Нам не хватает мира, потому что мы нецельные. А нецельные мы, потому что знаем лишь десятую часть тех жизненно важных взаимоотношений, которые могли бы знать. Наш век верит в “чистку” взаимоотношений. Совлекай с них все внешнее, как с луковицы, и останется чистое или темное ничто. Пустота. Вот где оказались сегодня многие: они сознают свою полную пустоту. Они так стремились стать “самими собой”, что стали просто ничем или почти ничем».
Анри Бергсон был близок к идеям Уильяма Джеймса и других прагматистов и феноменологов. Он считал, что жизнь – это поток непосредственных переживаний и что «реальность непосредственно доступна уму, но жизнь переливается через край интеллекта». Из-за этого «реальность можно распознать, но нельзя полностью постичь». Он также полагал, что разум и логика искажают опыт, разлагая его в процессе анализа на составные части. Хотя, по мнению Бергсона, реальность нельзя представить абстрактно, как то пытаются делать наука и религия, не исказив ее, «потому что она непрерывно меняется». Мир есть множественность, поэтому не существует абсолютной истины; реальность всегда убегает от системы, и «не существует моста между конечным и бесконечным».
Бергсон выдвинул два важных предположения.
Во-первых, идея интуиции , которая окружает интеллект «по краям». Она обладает такими формами знания, которые «неуловимы» для интеллекта; интуиция есть форма познания без анализа и даже без способности выразить то, что было понято. Интуиция погружается в поток жизни и постигает человеческий опыт «без кристаллизации». Бергсон считал, что у нас есть два я: я -логики и я- интуиции.
Поэт – это классический пример интуиции, а метафора – классическая форма интуитивного познания, поэтому метафора представляет собой «новое название такой характеристики реальности, для которой у нас ранее не было названия». Концепция интуиции Бергсона, как видно, сильно пересекается с идеей Фрейда о бессознательном.
Во-вторых, идея творческой эволюции . Бергсон полагал, что нашел иной важный подход к миру, действующему не как машина: этот мир находится в процессе эволюции, он рождает новые виды, новые различные формы организмов. Он говорит о «жизненном порыве», который на протяжении истории стоит за процессом эволюции и поддерживает все большую и большую подвижность организмов, поэтому Бергсон видел в мобильности наивысшее выражение свободы.
Ирландский поэт Уильям Батлер Йейтс писал:
«Ум человека вынужден выбирать
Совершенство либо жизни, либо труда,
И если он выбирает второе, ему следует отказаться
От небесных обителей».
Английский философ Джордж Эдвард Мур создал свою систему этики и начал с положения о том, что, несмотря на смерть бога, некоторые вещи в мире сами по себе лучше некоторых других, и мы догадываемся о том, что жизнь может быть лучше той, какова она есть.
Поначалу Мур ориентировался в основном на искусство: «Искусство есть только лишь представление о том, каким все должно быть». Более того, он считал, что «встречу с красотой искусства практически невозможно отличить от встречи с Божеством».
Искусство для Мура было «царицей всех стремлений»: «Его объект – красота – такая вещь, о которой можно заботиться, которую можно пытаться создавать в мире, или поддерживать других, занимающихся тем же; это то, с помощью чего можно сделать мир лучше».
Для описания человеческой этики Мур использует термины «благо» и «должное».
Благо – «понятое как общее достояние всех, и такие вещи, которые хороши сами по себе, то есть им присуща ценность, и они должны существовать или достойны существования ради них самих».
Основная мысль Мура заключалась в том, что этика изучает те предметы, которые не изучают другие науки, потому она независима от любой другой деятельности. В ходе своих размышлений он сделал вывод о «натуралистической ошибке», как он назвал любую попытку идентифицировать благо с чем-то, кроме него самого. Он считал, что благо не поддается определению, а некоторые вещи хороши сами по себе, поэтому задача этики «постичь природу этого общего достояния».
Для Мура благо иногда было категорией, иногда идеей, объектом, практикой, но не было тождественно ничему иному, кроме себя самого. Он считал, что каждый человек осознает хорошее: люди имеют представление о том, что значит жить лучше, что должно существовать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: