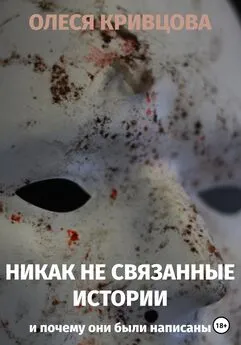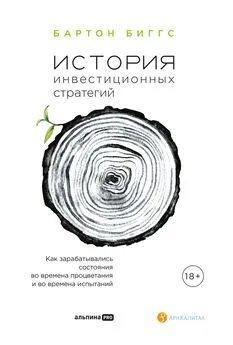Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]
- Название:История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-155993-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres] краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ориген не создавал аллегорию, как не делал этого и Филон. Ее уже давно применяли в толковании произведений Гомера, пытаясь разобраться в позорных и возмутительных поступках богов, которые во многих отношениях вели себя как безнравственные люди. Толкователи, особенно в Александрии, родном городе Оригена (и Филона), объясняли, что человеческие слабости, свойственные богам, указывают на духовные реальности, и тем устраняли ту обиду, которую эти истории могли нанести слушателям. Гомеровский эпос в эллинистической культуре обладал своего рода каноническим статусом, и для простых читателей его требовалось облагородить. Как говорит об этом Мартин Гудмен, «никто в I столетии нашей эры не хотел в прямом смысле жить в нравственной вселенной Ахилла или Одиссея» [35]. И потому этим образам придавали символическое толкование. Ориген унаследовал эту традицию, к которой христианские авторы обращались еще до него, и широко применил ее к Библии. И пусть Бог Библии не был аморальным в том плане, в каком были таковыми греческие боги у Гомера, Он, тем не менее, часто говорил и делал такое, что казалось недостойным его возвышенного статуса, и (особенно в Ветхом Завете) представал слишком по-человечески: выходил из себя, менял решения и, в общем, действовал так, как мог бы действовать земной тиран. Аллегория устраняла эти проблемы одним махом.
Но Ориген обратился к аллегории не просто как к защитному приему: он пошел еще дальше и восхвалил ее как совершенный метод. Книга, которую требовалось толковать аллегорически, по статусу и авторитету была выше, нежели любое другое произведение, написанное в прямом, «земном» смысле. Мы находим эту идею в ответе Оригена языческому философу Цельсу, порицавшему христиан за то, что их священные тексты (оба Завета) недостойны ни одного бога, которого стоило бы почитать. Цельс указывает и на постыдные поступки гневного ветхозаветного бога, и на такие проблемы, как расхождения в Евангелиях: на протяжении поколений, вплоть до наших дней, авторы антихристианской направленности будут настойчиво указывать именно на это. В ответ Ориген не стал защищаться и даже не попытался ни опровергнуть обвинения, ни счесть их справедливыми – скорее, он утверждал, что в этом нужно видеть подсказки, указывающие на глубинные смыслы. И книга, в которой есть такие смыслы, занимает высочайшее положение – как, скажем, труды Гомера, которые в эллинистической культуре, по общему мнению, такое положение обрели. Так Ориген «завладевает высотой». Чем больше в Библии проблем, тем чаще она требует аллегорических толкований, а значит, тем она выше и благороднее.
Современному читателю подобный подход, вероятно, покажется несколько лукавым и даже циничным, но Ориген, по всей видимости, полностью в это верил. Проблемы в тексте – знак того, что в нем скрыто сокровище. Вот, скажем, показательный пример: разрешения и запреты на пищу, которые приведены в Книге Левит и во Второзаконии и все еще остаются основой для иудейских ритуальных практик. Ориген полагал, что эти запреты и разрешения нельзя воспринимать всерьез, в буквальном смысле – и, следовательно, они указывают на более глубокие истины, связанные с чистотой и святостью души. Читатель-иудей непременно сочтет, что здесь доводы Оригена неубедительны – и что философ не сумел увидеть, с какой нравственной серьезностью относятся евреи к предписаниям кашрута, и совершенно не увидел духовной ценности этих предписаний. (Филон довольствовался тем, что обнаружил аллегорические смыслы за буквой предписаний, но он явно противится мысли о том, что не следует соблюдать букву закона [36].) Но к тому времени иудаизм и христианство поистине разошлись – и уже не понимали друг друга.
Принципы, на основе которых Ориген толковал Священное Писание, проявляются не только в его комментариях на те или иные тексты; кроме того, он первым из христианских авторов написал трактат, где рассуждал об интерпретации Библии: это четвертая книга его труда «О началах» [37]. И он утверждает, что…
Божественная Премудрость позаботилась, чтобы в историческом смысле (Писания) были некоторые преткновения и пробелы, и для этого внесла в Писание кое-что невозможное и несообразное. Таким образом, самая непоследовательность повествования, как бы какими-нибудь преградами, должна останавливать читателя и преграждать ему путь этого обыкновенного понимания; а отклонивши и устранивши нас (от этого пути), она должна побуждать нас ко вступлению на другой путь, дабы через вступление на телесную тропинку нам открыть безмерную широту божественного знания и некоторый высший и превосходнейший путь. При этом нам должно еще знать, что главная цель Святого Духа – сохранить последовательность духовного смысла, как в том, что должно произойти, так и в событиях уже минувших. И вот, где Святой Дух нашел возможным применить исторические события к духовному смыслу, там Он одними и теми же словами изложил текст того и другого (исторического и духовного) повествования, всегда глубоко скрывая таинственный смысл; где же историю событий нельзя было применить к последовательности духовной, там Святой Дух носил иногда нечто не вполне верное исторически или совсем невозможное, иногда же возможное, но в действительности не бывшее; и притом в одних случаях Он внес немногие слова, которые по телесному пониманию, по-видимому, не могут быть истинными, в иных же случаях Он сделал большие вставки, что особенно часто встречается в законодательстве. Здесь в самых телесных предписаниях содержится много явно полезного, но есть и такие предписания, в которых не видно совершенно никакого полезного значения, а иногда замечаются даже и невозможные постановления. Все это, как мы сказали, Святой Дух устроил для того, чтобы побудить нас, – при невозможности найти истину или пользу в том, что представляется с первого взгляда, – отыскивать высшую истину и находить достойный Бога смысл в Писании, признаваемом нами богодухновенным.
Ориген. О началах, 4:15Находить «достойный Бога смысл» – вот к чему в первую очередь стремится Ориген, и для него это часто означает «не толковать в прямом значении».
Но если мы примем как аксиому то, что Ориген всегда воспринимал аллегорически лишь буквальные тексты, нас, возможно, ждет сюрприз: порой он придает «сверхаллегорическое» значение тексту, который мы и так изначально считаем аллегорическим (иносказательным или метафорическим), или же заново трактует его при помощи новых аллегорий. Возьмем, к примеру, притчу о работниках в винограднике (Мф 20:1–16):
Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой; выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что́ следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то́ же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что́ вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что́ следовать будет, полу́чите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию; и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то́ же, что́ и тебе; разве я не властен в своем делать, что́ хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними [63].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]](/books/1144118/dzhon-barton-istoriya-biblii-gde-i-kak-poyavilis-bi.webp)
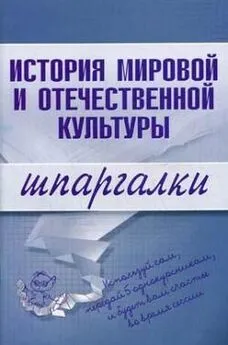


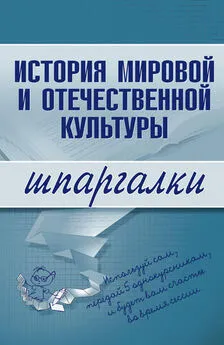
![Джон Херст - Краткая история Европы [litres]](/books/1060852/dzhon-herst-kratkaya-istoriya-evropy-litres.webp)
![Джон Норвич - Краткая история Франции [litres]](/books/1070487/dzhon-norvich-kratkaya-istoriya-francii-litres.webp)