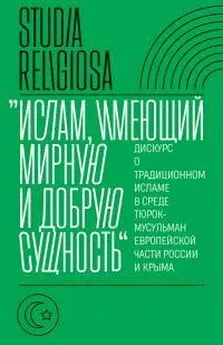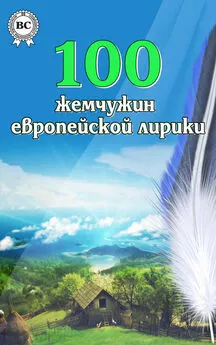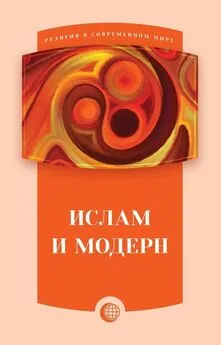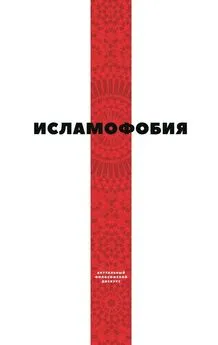Коллектив авторов - «Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма
- Название:«Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НЛО
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - «Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма краткое содержание
«Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не вполне удачны и попытки сформулировать теоретические и методологические основы самого обновленческого движения. В уже цитировавшейся мною книге Д. Мухетдинова «Ислам в XXI веке: программа обновления» говорится, в частности, следующее:
…Есть и иной, обновленческий вариант решения проблемы модернизации. Он заключается в обновлении исламской цивилизации. Легитимность этого подхода основана на известном хадисе, согласно которому каждый век Всевышний посылает умме обновителя веры… Тенденции к обновлению выразились в ряде течений, именуемых «реформаторскими». В противоположность архаизирующему подходу, который (пусть и не совсем справедливо) принято называть «салафитским», обновленческое движение можно охарактеризовать как интеллектуальный салафизм. Суть его состоит в том, чтобы четко отделить содержательное от вторичного и внешнего, поэтому обновленческое движение принципиально кораноцентрично. Оно тоже вырастает из традиции, из традиционного тезиса об иджтихаде, о динамическом развитии фикха и богословской мысли, но при этом преодолевает классическую традицию как не соответствующую социальным условиям современности. Представители указанного течения убеждены, что сами принципы традиции нуждаются в пересмотре с опорой на гуманистический и плюралистичный потенциал Корана. Они считают, что нужно проверить факты традиции на предмет их соответствия Корану и аутентичной Сунне, нужно произвести деконструкцию традиции, и это реальная альтернатива той тенденции, которая воплощена в архаизирующей модели [319].
Из этой пространной цитаты довольно сложно вывести кредо мусульманского обновленчества в России и составить представление о самом этом явлении. Возникает множество вопросов, на большую часть из которых книга «Ислам в XXI веке» не дает ответа: что значит «преодолеть классическую традицию»? что такое традиция? чем классическая традиция отличается от неклассической традиции? как пересмотреть принципы традиции? Ведь для того чтобы что-то пересматривать, нужно четко сформулировать: что есть традиция в исламе, какой методологией руководствуются традиционалистские богословы, а также показать на конкретных примерах, в чем состоит преимущество подхода обновленчества. И в чем, наконец, суть самого обновленчества, кроме как в деконструкции традиции?
Принципиальным для понимания идей мусульманских обновленцев в России является вопрос о так называемой аутентичной Сунне. Это выражение заимствовано Мухетдиновым у Тауфика Ибрагима, но ни тот, ни другой не предлагают методики, которая позволяла бы безошибочно отделить аутентичные предания от неаутентичных [320]. Я уже приводил цитату из книги Т. Ибрагима «На пути к коранической толерантности», в которой говорится о том, что к аутентичной Сунне «навряд ли могут относиться хадисы , содержащие внекоранические сведения о сотворении мира, ангелах и демонах, жизни доисламских пророков, конце света, Рае и Аде» [321]. По мнению Т. Ибрагима, «признание божественного происхождения подобных сведений противоречит мысли о самодостаточности Корана, его всесовершенстве и всеполноте, неоднократно подчеркнутой самим Писанием» [322]. Однако, используя метод исключения, ученый здесь руководствуется в большей степени формальной логикой, чем инструментарием мусульманского правоведа.
Влияние Т. Ибрагима на обновленцев наиболее ярко проявляется в концепции «коранического гуманизма». В книге «Ислам в XXI веке: программа обновления» Мухетдинов указывает, что обновленческий проект российских мусульман получил название «коранического гуманизма» [323]. Этот термин заимствован из одноименной монографии Тауфика Ибрагима [324]. Книга эта, в свою очередь, является переизданием работы ученого «На пути к коранической толерантности», в которой употребляется термин «коранический/пророческий гуманизм», однако не дается его определения. Из общего смысла работы можно сделать вывод, что коранический гуманизм выступает как некая толерантная модель ислама с реформированной системой фикха (прежде всего в сфере уголовного законодательства). Иными словами, это вновь отсылает нас к идеям, которые провозглашали Махмуд Таха и его ученики. Одним из базовых элементов концепции «коранического гуманизма» является теория о всеохватности Божественной милости, сформулированная в начале XX в. татарским богословом Мусой Бигиевым (1871–1949) [325]. Бигиев считал, что все люди, независимо от их вероисповедания, войдут в Рай [326].
По мнению Мухетдинова, коранический гуманизм основывается на следующих принципах: систематической борьбе со слепым таклидом , хадисоцентричностью, недоверием к разуму, эксклюзивизмом и внутренней замкнутостью [327]. Дальнейшие пояснения, которые даются в книге «Ислам в XXI веке», более подробно раскрывают содержание того, что автор вкладывает в указанные понятия. Однако даже самый краткий богословско-правовой анализ критикуемых автором явлений ( таклида , хадисоцентричности и др.) в работе Мухетдинова отсутствует. Вместо этого автор выдвигает некие тезисы, которые без религиозно-правового обоснования выглядят как лозунги, фигуры речи. Так, например, в пункте, посвященном таклиду , говорится следующее:
У мусульманина может быть только один авторитет, которому следует доверять безоговорочно – это Аллах. Слово Божье, являющееся, как известно, атрибутом Аллаха, вечно и несотворенно, поэтому оно есть неизменная Истина, актуальная во все времена. Если выводы уважаемых факихов или богословов расходятся со Словом Божьим, то предпочтение должно отдаваться Корану, какие бы изощренные ходы мысли они в свою пользу ни приводили [328].
Не выдерживает критики категоричное противопоставление традиции разуму, о чем можно прочесть в любом словаре логики:
Противопоставление традиции и разума должно учитывать, что разум не является неким изначальным фактором, призванным играть роль беспристрастного и безошибочного судьи. Разум складывается исторически, и рациональность может рассматриваться как одна из традиций [329].
Налицо также очевидное упрощение Мухетдиновым понятия таклид , сведение его к примитивной апологетике. Если развивать тезис об авторитете в исламе, то логическим продолжением его будет отказ от мазхабов . Но до таких крайностей автор не доходит – по крайней мере в публичных выступлениях и текстах.
Следует отметить осторожность Мухетдинова в продвижении исповедуемых им идей. С одной стороны, он бросает яркие лозунги, с другой стороны, не развивает мысль, давая читателю или слушателю (книга «Ислам в XXI веке», напомню, состоит из докладов) возможность самому продолжить мысль автора. Подобная тактика оправдывает себя: во время дискуссии о «коранитах» на страницах мусульманских сайтов Мухетдинов не попал в категорию обвиняемых в «коранизме», а лишь оказался в числе подозреваемых [330]. Это отличает публикации Мухетдинова от текстов Батрова и Садриева, в которых не только ставятся острые вопросы, но и даются не менее острые ответы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: