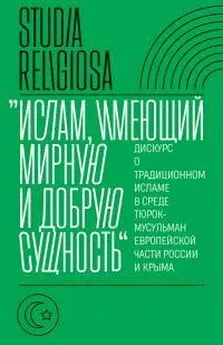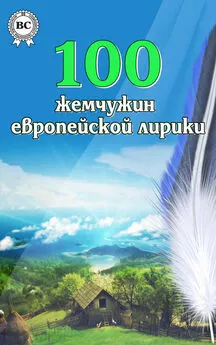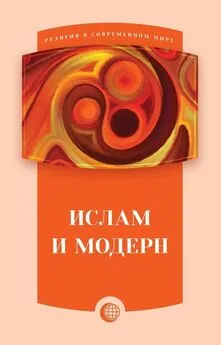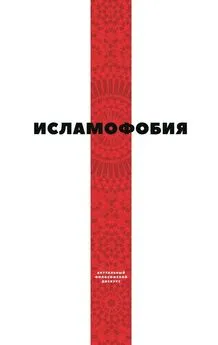Коллектив авторов - «Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма
- Название:«Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НЛО
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - «Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма краткое содержание
«Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, обновленческое движение в современном российском исламе представлено несколькими религиозными деятелями, работавшими или продолжающими работать на административных должностях в федеральных и региональных муфтиятах. Научным авторитетом для обновленцев выступает профессор Тауфик Ибрагим – светский ученый, выступающий за критический подход к Сунне и призывающий отдавать предпочтение Корану при решении богословско-правовых проблем. Организации мусульманских обновленцев в России как единой структуры с общепринятой идеологией не существует. Признавая авторитет Тауфика Ибрагима, другие заметные в публичном пространстве представители обновленчества в российском исламе не согласовывают с ним или друг с другом свои публикации, однако стараются продвигать друг друга в СМИ, а также в различных учреждениях и организациях. Что касается связей с представителями реформистски ориентированных религиозных деятелей за рубежом, то о подобного рода взаимодействии ничего определенного не известно. Несмотря на заявления некоторых обновленцев о том, что обновленчество в российском исламе является частью международного реформистского движения [304], подобные утверждения выглядят скорее декларацией о намерениях и попыткой обосновать собственную легитимность в глазах российских мусульман [305].
«Коранический гуманизм» и мусульманское обновление
Рустам Батров подверг фетву «О коранитах» уничтожающей или, если быть точным в терминологии, уничижительной критике практически сразу после ее издания. Один из основных выводов, которые делает Батров, – фетва свидетельствует об интеллектуальном банкротстве Совета улемов СМР и ДУМ РФ. По мнению Батрова, имея целью опровергнуть взгляды «отрицателей Сунны», авторы документа фактически пришли к противоположным выводам [306].
Действительно, те, кого принято называть «традиционалистами», не смогли выступить с серьезным богословско-правовым анализом текстов, публикуемых обновленцами, если не считать публицистических заметок в мусульманских электронных изданиях [307]. Единственным документом, в котором предпринята попытка рассмотреть взгляды оппонентов с богословско-правовой точки зрения, была фетва «О коранитах». Но и в ней, как уже было отмечено, не содержится критики воззрений обновленцев, или «коранитов». Фактически и фетва, и другие публикации сводятся к констатации общеизвестного и совершенно не оспариваемого так называемыми коранитами тезиса, что Сунна является важным источником мусульманского вероучения, и любые попытки подвергнуть сомнению это утверждение являются признаком неверия [308].
В публикациях, посвященных критике фетвы, Батров достаточно убедительно показывает, что мусульманская богословская мысль в современной России находится в глубоком кризисе [309]. Батров имеет в виду своих оппонентов – тех, кого он называет «хадисидами», или «хадисоцентристами». Однако замечание его справедливо не только в отношении традиционалистов, но и в отношении самих обновленцев.
На первый взгляд, представители обновленчества в российском исламе произвели значительный корпус текстов. Однако, несмотря на большую публикационную активность ключевых фигур российского обновленческого движения на страницах как бумажных, так и электронных изданий, их тексты в основном сводятся к трансляции идей зарубежных и российских авторов.
Публикации обновленцев имеют наукообразную форму, однако по содержанию зачастую представляют собой образец идеологизированной публицистики, в которой цитаты из Корана служат не поводом для осмысления окружающей действительности и богословско-правового анализа, а призваны подкрепить точку зрения автора. Например, Д. Мухетдинов пишет:
Может показаться, что я ставлю этничность выше ислама, но это не так. Заявленная в первом решении позиция, согласно которой ислам находится над этничностью и главное – это принадлежность к умме, в целом подтверждается Кораном (выделено мною. – Р. Б. ). Последователям Пророка сказано: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха» (3: 110) [310].
Иными словами, автор высказывает мысль, а затем приводит близкий по смыслу айат Корана, подобно тому, как это делали начетчики в Советском Союзе, подыскивая нужные цитаты из классиков марксизма-ленинизма для любого пригодного случая. Тогда как мусульманский богослов в первую очередь исходит из текста Корана. Интерпретируя положения Священной Книги, он ищет ответы на возникающие вопросы, не формулируя заранее готовое решение.
Единственная работа Мухетдинова, которая по формальным признакам может претендовать на статус богословской, это брошюра «Коран как подтверждение и продолжение миссии всех пророков и посланников», имеющая компилятивный характер [311].
Нет богословских трудов и у Арслана Садриева и Рустама Батрова [312]. Оба, подобно Мухетдинову, предпочитают статус научных сотрудников в академических учреждениях положению независимого богослова: оба бывших религиозных деятеля, помимо прочего, работали в Центре исламоведческих исследований при Академии наук Республики Татарстан [313].
Пожалуй, наибольший интерес из текстов, написанных мусульманскими обновленцами на русском языке, представляет книга Р. Батрова «Абу-Ханифа: жизнь и наследие» [314], а также статьи того же автора, посвященные этому выдающемуся мусульманскому богослову [315].
Если Тауфик Ибрагим предпринял попытку очистить Сунну Пророка от некоторых наслоений последующих столетий, то Батров поставил перед собой аналогичную задачу в отношении наследия Абу Ханифы. Батров попытался реконструировать подлинную богословско-правовую школу Абу Ханифы и противопоставить ее ханафитскому мазхабу . Последний, по мнению Батрова, представляет собой результат поздних интерпретаций взглядов ученого:
…ханафитский мазхаб и мазхаб Абу Ханифы далеко не тождественны друг другу… Если говорить вкратце, то мазхаб (учение, букв. «путь») Абу Ханифы – это то, как великий богослов ислама систематизировал исламское наследие нашего Пророка, причем, стоит полагать, весьма точно для своего времени. А ханафитский мазхаб – средневековая интерпретация этого учения, то, во что его превратили ученики и последователи Абу Ханифы [316].
Однако, несмотря на оригинальный взгляд на некоторые вопросы исламского вероучения в монографии об Абу Ханифе, эта работа также занимает некое пограничное положение между академической наукой и богословием [317].
Попытки российских обновленцев выдвинуть самостоятельные теории, затрагивающие фундаментальные положения ислама, а также позволяющие понять место ислама в истории России, нельзя признать успешными. Более того, иногда они заканчивались громким провалом. Так было, например, с концепцией «российского мусульманства» Д. Мухетдинова, заслуженно подвергнутой критике за интеллектуальное бессилие даже близкими к автору востоковедами [318].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: